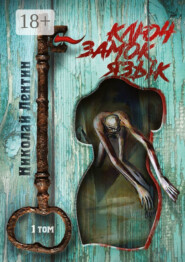скачать книгу бесплатно
У Раскольникова прыгала челюсть, вода стекала к ключицам. Он чувствовал себя как тело, с размаху шмякнутое о стену. Никогда ещё реальность не приближалась к нему так вплотную. Этого не могло быть, в это нельзя было поверить, но происходящему его вера и не требовалась: оно сбывалось помимо него, хотя вокруг него и для него. Каким-то новым зрением, разом потолочным и внутриполостным, он наблюдал двух голых баб в кривящейся комнате и себя на посрамленьи перед ними.
– Что, Лизка, хорош соколик?
– Хочу! – рявкнула идиотка.
Хозяйка, встав с кресла, раздражённо пихнула сестру, пялившуюся на Раскольникова: «Поди». Та, колыхая студенистыми телесами, еле втиснулась в кресло, с кряхтеньем то ли собственным, то ли мебели. Раскольникова била дрожь, он вжимался в постель, в желудок, в позвоночник, в центр Земли, в своё отсутствие – от этого Здесь, от этого Вот, от этого бреда, от сна про невозможность проснуться, от прикосновения пухлого тела хозяйки к своей ноге, от необратимости случившегося и неотвратимости надвигающегося… от этого страшного огурца в её руке.
Именинница, присев на кровать, погладила его от подмышки до бёдра.
– Заморыш. Ну да поглядим. Вырос лес – вырастет и топорище. Огурчика хочешь?
Раскольников замычал. Она поводила вонючим липким огурцом ему по губам.
– Не бойся. Ежели сам себе не враг, то и от меня кроме добра…
Раскольников плюнул, но недалеко, рядом с подушкой. Хозяйка легонько ткнула ему в нос, но так больно, что слёзы выступили.
– Поплюй у меня, – сказала она ласково.
– Алёна Ивановна, – попросил Раскольников чужим хриплым дискантом, – отпусти меня.
Та поплямкала ему губками, как дитю малому.
– Обязательно. Моё слово верное. Да спешить-то нам некуда. Ко взаимному удовольствию. – Кинув огурец сестре, она игриво обежала пальчиками пах распяленного гостя. – Ишь, муде какое пушистенькое. А как у нас елдак-елдачок, елдачишко-елдачище…
Раскольников заскрипел зубами.
– Руки убери, дрянь! – гаркнул он.
– Ой, напугал! К нему с ласками, а он зубами лязгает. Ну, давай, птенчи-ик, оперяйся-я…
– Я тебя в полицию сдам! Сука каторжная! Люди! Помогите! Караул! – завопил он что есть мочи, выгибаясь с хрустом на постели.
Хозяйка махнула, надвинулась Лизавета и съездила его по скуле – не сильно, ладошкой мазнула, однако на несколько секунд он выпал в темноту и пришёл в себя, когда в лицо брызнули водой.
– Лизка шума не любит. Как кто кричит, убить готова, да, Лизка?
– Всё равно у вас ничего не выйдет. Хоть убейте, – выдавил он и закрыл глаза, чтобы не видеть глумливую стерву, этих голубых бесстыжих глаз и щёчек с подлыми ямочками.
– Зачем убейте. Мы не душегубки, мы православные. Отец Евлогий говорит, что такой праведницы, как я, со времён мучеников не было. Мы тебе, голубок, просто клювик заткнем карпетками твоими драными.
Раскольников всхлипнул.
– Ко мне мать едет. – И заплакал.
– Пусть едет, – одобрила праведница. – Мы ей женишка тут подыщем.
– Ты, тварь! Не смей говорить так о моей матери!
– А чего, не баба, что ли? Или святым духом тебя понесла? Она, может, ещё поболе меня хочет. А я, может, сама мать, – рассудила тварь, ловкими пальчиками танцуя на гениталиях Раскольникова. – М-м, молоденький ещё, козлом не воняет.
«Руки! Мне бы только руки освободить!» Он готов был вырвать спинку у кровати и гвоздить ей по головам мерзавок. Но одной готовности было мало.
– Мне на двор надо, – скрежетнул он.
– Чего?
– Того. В нужник.
– Чего удумал. И по-каковски?
– По-всякому.
Хозяйка ногой выдвинула из-под кровати горшок.
– Смотри, милок, себя не перехитри.
Лизавета отвязала ему руки, но стянула их между собой. Раскольников рывком сел на постели и стал распутывать узлы на щиколотках. «Суку головой в рожу, потом Лизку ногой и чем-нибудь по башке и бить, бить…» Тут горло ему стянула туго удавка, он захрипел и ухватился за петлю. Хозяйка сдёрнула его на пол, Лизавета усадила на горшок.
– Вот тебе, батюшка, и удобства.
Раскольников замычал, прося ослабить хватку.
– Я… так не могу… Оставьте меня.
– А мы тоже иначе не можем. Тебя оставь – ты мимо горшка нагадишь. Давай, тужься, милок.
У Раскольникова вновь потекли слёзы. Этот бескрайний позор совершенно обессиливал его. Толстые бабьи ляжки плясали перед лицом. Особенно страшны были слоновьи оплывшие ножища Лизаветы, с клочьями пакли в промежности, куда его намеревались впихнуть с концами.
– Представь, что ты ребёночек грудной или в лазарете раненый, – посоветовала Алёна Ивановна. – Дело богоугодное, все святые сикали да серили.
И Раскольников действительно описался.
Полузадушенного, в слезах и поту, его вновь растянули на горизонтальной дыбе. Хозяйка, смочив тряпочку в кружке, утерла ему лицо, пробежалась по телу и затем припала ему на грудь тугими горячими мясами.
– Ну, будет. Не томи бабий род, сомлела я вся. Ишь как дрожишь. Ты мужик али нет?
– Нет, – ответил он с надеждой. – Я ничего не могу. Ничегошеньки.
– Ой ли? Ах ты мой монашек… – Она сползла по нему и принялась играть грудями с его причиндалами. – А какие монашки сла-адкие бывают… – Идиотка в углу загоготала. – Знаем, как вы, студентики, монашите, днём и ночью… Всё одно по-моему выйдет… – Именинница опустилась ещё ниже и присосалась, зачмокала, заурчала…
Раскольников весь, не только лицом, был одной гримасой отвращения. Ни о каком возбуждении в таких возмутительных обстоятельствах не могло быть и речи. Хотя именинница не была столь гадка, как дурында: по крайней мере кожа гладкая, и формы круглятся по-женски. На всякий случай он скосил глаза на икону на стене – кто же там в нимбе… Закатный свет из окна, головой к которому он лежал, розовой пыльцой припорошил обстановку, заодно подрумянив белёсое мясо потаскух. Ни вершка, ни капли гадинам…
– Ой да что же ты делаешь со мно-ой, касати-ик… Видать, зелье тебя забрало-о-о… – В руках у хозяйки вновь очутилась кружка с водой. – Ты зачем мыло спёр, монашек? – И она показала злосчастный обмылок, похищенный им из кухни.
Срамиться сильней было решительно некуда, тем не менее Раскольников смутился.
– Случайно, – кашлянул он.
– Ага, скользкое было, само в карман полезло. – Она натянула на одну руку серую нитяную перчатку, смочила палец в кружке и стала его намыливать. – Ох уж эти мне барчуки балованные. Мазурики похлеще апраксинских. Или ложки сопрут или мыло прикарманят. – Неожиданно она сунула руку ему между ягодиц и начала вкручивать мыльный палец в задний проход.
– А-а! – взвыл Раскольников. – Уйди, сука!
Хозяйка свободный рукой вмяла ему подбородок так, что он мог только подвывать сквозь зубы.
– Тише, тише, щи прольешь… Потерпи, это тебе не ежа доить… Сейчас всё будет хорошо. Ой, как студентику божию Родиону будет хорошо…
Надавливая на железу в прямой кишке, она снова уткнулась ему в пах и принялась лакомиться с похрюкиванием; рот ему теперь затыкала Лизавета.
Раскольников корчился от пытки, не понимая, чего ей добиваются. Ему и клистир никогда ещё не ставили. Он задыхался под дланью идиотки, во рту было солоно от крови, бессмысленный мозг колотился в черепной коробке. Силы сопротивления, что мышечные, что моральные, полностью иссякли. Ломота и тяжесть разливались от низа живота по всему телу. Ему казалось, что даже уши у него вспухли.
Хозяйка буркнула что-то набитым ртом, Лизка протянула шкатулку. Порывшись, не глядя, в ней, Алёна Ивановна вытянула красную ленточку, извлекла палец из задницы и, продолжая закусывать, ловко перетянула под корень приневоленное возбуждение жертвы своей.
– Красота! – похвалила она свою работу, превратившую мужское достоинство Раскольникова во что-то пуделеобразное. – А ты говорил… – И вдруг грянула размашистым сельским голосом: – Уродился, уродился, уродился мой конопель! Мой зелёный, тонок-долог, тонок-долог, бел-волокнист, бел-волокнист! Повадился, повадился, повадился, повадился!..
Какой там бел-волокнист – багровая венчальная свеча торчала посередь кельи, только что не лопалась.
– Истомилась вся, душу до нутра выкрутил… соколик… желанный… – причитала праведница, каких со времён мучеников не было, карабкаясь на него, закидывая белую плотную ногу, и, разместившись верхом, со стоном насела на своё завоевание смачной мякотью. Охнула, зрачки потемнели, полуобморочно заволоклись… – и запрыгала закатная тень по стене, и груди заметались, и бёдра зашлёпали… Расступись, голь, шмоль и компания, Алёна Ивановна скачет! Задыхаясь в новизне омерзения, Раскольников отвёл глаза и увидел, как Лизавета в кресле с усердием ярмарочного медведя вгоняет огурец в свою чудовищную колдобину.
Шумные выдохи перешли в рычащее постанывание, и после пароксизма наездница повалилась на Раскольникова, жалобно, почти обиженно всхлипывая. Он тоже застонал, не в силах вздохнуть под усладившейся тушей. «Ах ты мой медовый!». Приподнявшись, она осыпала его лицо поцелуями, Раскольников уворачивался, но она лизнула его в кровоточащую губу. Тут же озаботилась, скороговоркой произнесла: «Пёс, дерись, земля, крепись, а ты, кровь у раба божия Родиона, уймись», после чего поплевала на сторону.
– Отпусти, – выговорил он на последнем надсаде. – Чего тебе ещё надо…
– Что ты, милый, – удивилась хозяйка, теперь и хозяйка его тела. – Один раз не считается.
И снова пошла писать сучья губерния, паскудная волость, слякотный уезд… Оголтелая пожилая дрянь скакала на тощем теле студента от экстаза к экстазу, после каждого со страдальческим воплем падая ему на грудь, словно негодуя на одолевающую её похоть. Раскольникова не было, от тела его оставались только клочья, один из которых пульсировал нестерпимой разрывающей болью. Наконец, настрадавшись в своём раже, измолотя себе промежность его почернелым органом, она обрушилась сбоку у стенки и дёрнула бантик на красной ленточке.
Если и был ангел-хранитель у Раскольникова, то он тоже уже ни во что не верил.
– И мне!
Огромное, рогатое, голое, как освежёванное, с оттоптанным выменем и брюхом из мешковины опять вонючей тучей нависло над ним.
– Отстань, не до тебя, – простонала уморившаяся блудодейка и попыталась лягнуть сестру ногой.
Тогда Лизавета, дохрумкав огурец, отвязала ногу Раскольникова и, усевшись на неё горячим сырым мясом межножья, принялась с урчанием по ней елозить, пока чуть не вывернула ему колено в своём зверском рыкающем исступлении.
Раскольникову было всё равно, потому что с ним ничего уже не происходило. Первое лицо его единственного числа ухнуло в какой-то бесформенный страдательный залог, сделавшись тупым спазмом вещества из боли, беспамятства и согласия на них. Только и помнилось из мрака провала, что когда его на стреноженных подгибающихся ногах волокли на аркане куда-то, его вырвало на половик с рыком, похожим на вопль разврата.
………………………………………………………………………
Когда Раскольников пришёл в себя, то не мог понять… Сам оборот «он пришел в себя» не поддавался пониманию: кто этот «он», который возится в сдавленной тьме, и где это «в себе», куда якобы «он» пришёл, – и как он мог «прийти», если члены его поменялись местами в странно перекрученном новом устройстве тела. Он не помнил себя, себя не помнило его, оба они не узнавали друг друга… Постепенно удалось разобраться, где верх, где низ, и определить себя нагишом на тряпье в позе, при которой стянутые запястья связаны были со стянутыми же лодыжками. Он зарычал, как отловленный волк. Затравили студентика! Удалось перевернуться на бок лицом к широкой яркой щели вдоль пола, за ней было какое-то движение, пахло горелым.
– Эй! – позвал он несколько раз и ударил коленками в деревянную дверь. Клацнуло, заскрипело, – перед лицом оказались огромные стоптанные коты, над ними – передник, ещё выше – чудище рогатое. Это была кухня, он, стало быть, лежал на полу в чулане. И это было солнечное горячее утро, только неясно, какого дня – завтрашнего, сегодняшнего, судного или вообще бокового какого-то исчисления. Лизавета уставилась на него пустыми глазницами, – до того светлые у неё были зрачки, что сливались с белками, – и долго так, вероятно, могла бы стоять истуканом, как вдруг охнула и бросилась к плите, где на сковороде горел блин.
– Мне на двор надо! – крикнул он. Голос был хриплый, вчера сорвал. И весь он был сведён вчерашней судорогой.
Лизавета брякнула перед ним железную лохань.
– Развяжи.
Идиотка с важным видом погрозила ему пальцем.
– Руки развяжи, – подала голос вошедшая хозяйка.
Как только освободили руки, он приподнялся, ухватившись за дверь, и втянул в чулан сосуд. Его резко прослабило.
– Подтирку дай!
Сунули ветошку.
– Фу, навонял. – Алёна Ивановна распахнула окно. Лизка забрала лохань и понесла её, должно быть, в нужник на лестнице. Раскольников, сидя на корточках, торопливо, не щадя ногтей, царапал узлы на ножных путах. Он был связан, как раб, склонный к побегу, – с ослабленным натягом между ногами, так что семенить было можно, прыгнуть – ни в коем случае. «Собьёт одним тычком». Раскольников, впрочем, был уверен, что его врасплох больше не возьмут, и момент для нападения он непременно улучит; только бы добраться до ножа или какой-нибудь кочерги.
– Как почивал, батюшка? – полюбопытствовала хозяйка, жуя блин.
Раскольников не отвечал. Сыромятные ремешки не поддавались.
– Видать, крепко, коли спал до полудня. Мы уж и к заутрене сходили, а ты всё спишь. Дело молодое. На, выпей.
– Что это? – Раскольников принюхался к протянутой кружке.
– Чай травный, от всех недугов.
Пить хотелось ужасно.
– Опять зелье, – скривился он, но выпил. Пойло было не противным, отдавало анисом.
Вернулась Лизавета, снова взялась за стряпню.
– Где одежда моя?
– Вся под тобой. Мне чужого не надо.
Точно, куча тряпья на полу и составляла его гардероб, вплоть до смятого в блин картуза, всё в невозможном виде, облёванное и жёваное.
– Оставь, батюшка, Лизка выстирает.
– Я голым ходить не намерен.
Раскольников вытянул свои перепачканные панталоны.
– Как же ты, милый, портки наденешь? – возвеселилась мерзавка. Идиотка подгугукнула.
– Ноги развяжи!
– И не проси. Сперва умойся, потом дам худобу прикрыть.
Как ни упрямился Раскольников, пришлось распрямиться и, с ладошками в опухшем паху, мелкими шажками добраться до умывальника. Тут же он обмотал полотенце вкруг бёдер и стал смывать с себя вчерашние соль и слизь.