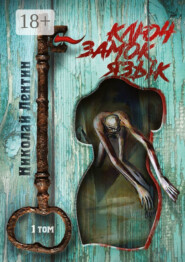скачать книгу бесплатно
И в злобе и отчаянии Раскольников крикнул, как некогда Гораций столетней развалине с чёрными зубами: – Ora[46 - Соси.]!
Глава VIII. РИСТАЛИЩЕ
С утра сам вымылся в корыте, но острых предметов ему по-прежнему не доверяли, – хозяйка выбрила его собственноручно «княжеской» бритвой, под дворовый аккомпанемент музыкального соседа. Он исполнял самый подходящий романс – «Ты не поверишь, как ты мила», точнее, одну эту фразу, заменяя в ней последовательно местоимения: ты не поверишь, как я мила, он не поверит, как я мила, я не поверю, как я мила… После завтрака последовал кофий с перчёными сливками, – давший повод к лизкиной взбучке.
– Ты попа встретила? Нет? А почему сливки скисли? Тебе сколько раз велено было – не брать у той чухны! Встала!
Дурында послушно подошла и наклонила к сестре рогатую голову.
– Ниже! В какое ухо влетело? – Лизавета показала. – А в какое вылетело? Ну так получай. – И съездила её по вылетному уху.
Сливки на вкус Раскольникова были богатейшие. Впрочем, Алёна Ивановна быстро отошла от гнева, а за гаданием и развеселилась.
– Где ты рот с зубами углядел? Голубь! Да не ты голубь, а вот же он – крылышко поднял, головку завернул. А значит это, что с тобой рядом хороший человек, да!
Кофейная гуща на этот раз вражью силу ей не сулила, и, порадовавшись, что учёный раб не смог отгадать очередную загадку («что у тебя спереди, а у бобра сзади?»), она с мурлыканьем удалилась в келью и вскоре явилась в полном параде, облачённая на сей раз не во вдовство и благочестие, а в платье шелковое, с сиреневыми лентами, с нарядным шорохом. Волосы под газовой косынкой, щёчки-яблочки, глазки добрые-добрые, – амплуа щедрой тётушки с бонбоньеркой для крестника за пазухой. Явно гастроль намечалась в приличном доме, где после трогательной интермедии должны были проникнуться к ведьме сердечной признательностью за обираловку.
«Трепет разлился по его внутренностям» – так, кажется, говорится в романах. Раскольников потянулся с нарочитым равнодушием.
– На охоту идёшь, Алена Ивановна? По грибы-ягоды, золотые да алмазные?
– Ты читал, что на денежках написано? – осведомилась хозяйка, укладывая прядку перед зеркалом.
– «Pecunia non olet»[47 - Деньги не пахнут.].
– На денежках написано, что у них ног нету. И потому в кошелёк они сами не придут. А мы им… – И двумя пальцами изобразила, какие ножки она им приделает. А потом этими же перстами ухватила Раскольникова за нос. – Не скучай, оладушек. Лизку мою не забижай.
Чувырла ухнула, а заодно и пёрнула с громким треском, будто передник разодрала. Ведьма погрозила ей кулаком и обратилась к Раскольникову.
– Может, купить тебе финтифлюшек каких к чаю? Пряничка медового, петушка на палочке?
– Мне на палочке! – басом сказала Лизавета и от избытка чувств снова пустила руладу из-под юбки.
– Дристунья! Только и дрыщет! Хватит гнилую репу жрать! Фу, навоняла! Я тебе покажу «на палочке»! Чтоб никаких гостей! Запру и ключ унесу. К моему приходу чтоб ни пылинки нигде! Полосушки вытрусить. Самовар начистить. Чтоб блестел, как лысый в бане. Балда Ивановна!
Сестрицы удалились в переднюю, а Раскольников спешно стал подбирать в ворохе страничек что-нибудь увлекательное для идиотки. Почитает, отвлечёт, рассмешит и внезапно… Жаль, гирька у ходиков маловата, эту тушу надо валить с одного удара…
Дурында вернулась и, как обычно, соляным столпом с раззявленной пастью застыла посреди комнаты. Но не за мухой охотилась, а выпялилась, будто впервые заметив, на картинку, где ветер уносит даму в зонтичном кринолине с прицепившимся к ноге франтом. Должно быть, размышляла, что бывают такие ветры или даже что есть такие страны, где женщины летают, похищая себе мужчин. Стояла долго, пока не испустила собственные ветры, оглушительно разрядившись, как полуденная пушка, так что даже юбка всколыхнулась. После чего, оставив постояльца в душистой атмосфере, утопала на кухню и загремела там посудой.
Раскольников, не вставая с дивана, подтянул к себе ветку фикуса и обмахнулся зелёным опахалом. Такая у тебя теперь жизнь, оладушек: чего стоит, тем и пахнет. Он отложил в сторону несколько листков сказочной дребедени: выручай, художественное слово. Волнение и предвкушение слиплись в тугой комок под кадыком. Он поднялся, пропихнул комок в желудок и пошёл в кухню; пан или пропал; fortes fortuna adjuvat[48 - Смелым судьба помогает.].
На кухне едко пахло уксусом: Лизавета смешала его с солью и натирала смесью самоварные щёки. Он потоптался в проёме, вытер вспотевшие ладони занавеской, потрогал кофейник: вещь лёгкая; всё подходящее – ухват, топор, поленья, сковороды – находилось в дальнем углу, за лизкиной тушей, её же не прейдеши.
– Что, Лизавета, убираешься, да? Это хорошо. Всё должно быть в аккурате, правда? Ты у нас молодчина, ей-богу. Я сам чистоту люблю, а ты баба чистая, не то что какая-нибудь… Марья Петровна. Знаешь Марью Петровну?
Дурында зыркнула на него, но ничего не ответила. Спина у неё была шириной с пролётку, ручищи ходили, как шатуны паровоза. Тоже ведь рабыня, тварь подневольная, но тем и счастлива. Хотя и не без трагизма: мужского пола недодают. «Бедная Лиза».
– Селёдочки к водочке! Кильки ревельские! Селёдочки голландские, а ну кому!.. – завопила, как резаная, разносчица со двора.
– Куры битые, куры битые, кому куру битую! – грянул поверх неё мужской рык.
Осторожно приблизившись, Раскольников зачерпнул кружкой воды в ведре.
– Ай да Лиза, ай да умница, как она хорошо самовар чистит! Ты только не устань – посиди, отдохни. Хочешь, я тебе сказку почитаю? Интересную, волшебную, про добрых молодцев? – Идиотка что-то хрюкнула. – Ладно, ты работай, а я тебе читать буду. – Он пошелестел страничками. – Вот слушай. Один богатырь хотел спасти девицу-красавицу. А её похитил страшный дракон. «Страшное девятиглавое чудовище, имеющее львиные ноги, исполинский рост и хвост змеиный, выскочило из дыму и бросилось на меня, чтоб разорвать на части. Когти передних лап его были больше аршина, и челюсти во всех головах наполнены преострыми зубами. Я обнажил саблю мою… и одним ударом отсёк ему две головы и обе лапы. Кровь полила, чудовище застонало, но вместо отсечённых голов выросло у него по две новых, так что стало оное с одиннадцатью. Чудовище с новою яростью бросалось на меня, и я посекал головы его неутомлённо, но не возмог бы я истребить оное, для того что головы его вырастали с приумножением, если б не вспало мне на мысль перерубить оное пополам. Я напряг остаток сил моих и одним ударом пересёк оное. Пол разверзся в сие мгновение пред моими ногами, земля растворилась и поглотила труп чудовища». Не правда ли, захватывающе? А дальше прилетела в ступе Баба Яга – костяная нога. «Глаза её были как раскалённый уголь, из рта лилась кровавая пена, и клыки её скрыпели престрашным звуком. – Ого! – заревела она, скоча со своей ступы и брося перст. – Насилу я дождалась тебя, богатырь! Я пообедаю ныне вкусно, я очень голодна. Сказав сие, выпустила она ужасные свои когти и протянула руки, чтобы разорвать богатыря. Но он успел выхватить саблю и начал рубить её. Сражение было жарко, богатырь не щадил, и ведьма лишилась всех пальцев с когтями. Богатырь схватил железный кол, чтобы раздробить ей ноги. Тысяча ударов, из коих каждый раздребезжил бы дуб, нанесено в костяные ведьмины ноги, но ноги сии состояли из таковой крепкой кости, что только малые отщепки от них откалывались. Ведьма ревела, хотела колдовать, но лишь высунула для того язык свой, как богатырь ухватил за язык и оный вырвал. А среди двора был вкопан медный столб, к коему Баба Яга привязывала, как коня, свою ступу. Богатырь вырвал столб, размахнулся, и с двух ударов костяные ноги по самые вертлуги отлетели. Баба Яга заревела и бросилась под ноги к богатырю, но сей улучил её ударом в голову так, что оная расплющилась, и скаредная её душа оставила гнусное своё обиталище и низверглась во ад. Хищные птицы, виющиеся над местом побоища, усугубили вопль, спустились к трупу ведьмы, расклевали оный в мгновение ока так, что не осталось оскрёбка косточки, и улетели прочь».
Лизка давно уже забыла про самовар и, сгорбясь, исподлобья таращилась пустоглазо на Раскольникова. Вид был таков, будто до неё никакие смыслы не доходили, однако это было не так: лапы её непроизвольно крючило при описании каждого удара.
– Знаешь, Лиза, я устал стоять. Пойдём в комнаты, там дочитаю.
Завороженная орясина без звука двинулась за ним. Раскольников уселся на диване, Лизка на стуле напротив, гипнотическое чтение продолжилось. Пересказав ещё несколько эпизодов, Раскольников заметил, что дурища начала зевать во всё лукошко. Причем зевала она, скучала и чесалась в лирических местах, вроде: «Ах, прекрасная княжна, можно ли быть нечувствительну, имевши счастье вас видеть?», и, напротив, заслыша: «Тумак был толь жесток, что голова ушла совсем в тело, выскочила в противуположной части на низ и вынесла на себе желудок, ровно как шапку» – тут же сосредотачивалась на лакомой картинности и начинала вострить когти. Такая боевая готовность вовсе не улыбалась ему, размякни, гнида, умились голубиным терзаньям нежных душ… «…Я с первого взгляда на тебя восчувствовала всё действие твоих совершенств, заключила вечно воздыхать, не имея надежды тебя увидеть, и не быть ничьею. Не видеть тебя! Какие мучительные родились от того в душе моей воображения! Я не могла заснуть и, конечно бы, не преодолела себя идти искать тебя в сей пустыне, если б мучительница моя не запирала меня по всякую ночь в чулане…»
– Что за чёрт?! – возопил зачитавшийся Раскольников, отшвыривая гнусное пророчество из прошлого века. Образина подобралась, как медведица при потраве. Он тут же взял себя в руки. – А дальше, Лиза, был пир на весь мир, столы ломились от кушаний, шипели кубки, полные вина, ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, по усам текло, а в рот не попало, и почему бы нам, Лизонька, не устроить пир горой? Давай собирай на стол всё, что бог послал, и страсбурга пирог нетленный, и трюфли, роскошь юных лет, а главное, водочку, наливочки, настоечки, стопочки да рюмочки, фонарики-сударики…
Обойдя стол со стороны окна, он поспешил к буфету.
– Низзя! – Дубина встала стеной. О господи, она больше буфета.
– Почему нельзя? Раз так в сказке говорится, значит, можно. Всё по-писаному должно быть, всё как в сказке. Ты баба умная, сама понимаешь. К тому же нынче праздник, у-у, какой нынче праздник! Именины у меня, вот те крест. Знаешь, что такое именины? День ангела? А у тебя когда именины? Не знаешь – не надо, я тебе всё равно подарок дам, попозже. Мы ведь пить не будем, нам низзя! – мы только на стол всё поставим, сестрица Алёнушка придёт, а у нас всё готово уже, ох, скажет, какие молодцы, вот вам за то петушки на палочке, давай, Лизочек, вот эту бутылочку поставим, а к ней графинчик в пару, а ты закусить принеси, хлебца, маслица, маслин, устриц, тарталеток…
Вспыхнули штофные грани и ободки стопочек в солнечной луже на столе. А ещё сахарку для девушки, дай Бог, чтоб подавилась, и медку, чтоб слиплась намертво… Лизка притащила разносолы: две луковицы и краюху ржаного. Ути боже мой, и в бусы влезла, куда ж без них.
– Хорошо сидим, Лизетта! Красота несказанная, просто ноги подгибаются. Только вот корешок этот в бальзамовке – тебе не кажется, что он протух? Надо понюхать. Нет, так не поймёшь, дай-ка я тебе плесну – на пробу, Лизхен, на пробу. Что, скусно? Ну теперь-то допивай, обратно сливать – грех, ни в одну бутылку нельзя входить дважды. Я себе тоже капну, чтоб не отставать. Ну, чики-пыки?
– Низзя! – гаркнула дурында и опрокинула в глотку стопку.
– Вот и славно. А штофик-то усох, ни то, ни сё, мы его сейчас разольём и уберём, пустая посуда на столе – дурная примета, к бедности да старости. Вы пейте, уважаемая Лизавета, а я вам важную штуку открою. Есть такие злые ведьмы, которые человека могут уменьшить и в бутылку посадить. А есть добрые волшебницы, – они злых могут самих в бутылку упечь. И корешок этот верней всего злой дух и есть, пусть он там и засохнет, а мы за это чики-пыки!
Выпив, идиотка попыталась извлечь зловещий корень, но палец её не проходил в горлышко. Зарычав, она принялась трясти бутылку.
– Не трожь – заболеешь, лишаями пойдешь! Ты вот что – маслица принеси, видишь: скатерть белая, вино зелёное, хлеб чёрный, а жёлтенького не хватает.
Только вышла – Раскольников тут же опростал свою стопку в кадушку с фикусом и пересел на стул. Пусть балда сидит на диване, с него сложнее подняться, а как захмелеет, на нём же и завалится спать. Доставлено было масло – куском в каплях холодной воды, в которой оно сохранялось. Раскольникову оно было ни к чему, ему нужен был нож, но дура притащила нож столовый, а не тесак, как он рассчитывал.
– Садись, Лизок, на диванчик, прими стаканчик. Ну как же низзя, когда можно, – всё как в сказках. Видишь, у этой бутылки вино поперёк горла стояло, разве это дело. А мы вот его до брюшка спустим и выпьем за что? – за моего ангела, иначе обидится ангел, линять начнёт с горя…
Дурында почтила ангела и вгрызлась в луковицу. Пока она заваливаться не торопилась и даже сидя на продавленном диване была выше Раскольникова. Экая громила, сколько ж тебе надо, друг Олимпиада… Теперь она пила без рассуждений, и беленькую хлестала, и вишнёвую, и на смородинном листе… – да в неё больше чем в буфет влезает. Раскольников еле успевал выплёскивать свою ёмкость в цветы за спиной.
– Ну что, хорош праздник? А давай, Лизочек, ещё разочек. Эх, гуляем! А не спеть ли нам под это дело? То-о не вее-тер ветку клони-ит…
Чувырла, свесив голову с коростинками в редких светлых патлах, вдруг начала смеяться утробным бульканьем. Потом всё громче, гулко, как под мостом, и наконец, вскинув рыло, зареготала совсем по-конюшенному. Он взглянул в её глаза – прозрачные, как пробка от графина – и ужаснулся, и похолодел, покрылся предсмертными мурашками. Она хлопнула по дивану огромной ладонью.
– Подь сюды.
Он поехал вместе со стулом подальше от идиотки. Она, не вставая, ухватила со стола бутылку и в два булька осушила.
– Подь сюды, курва!
– Лизавета, успокойся. Мы так не договаривались.
Неожиданно она метнула бутылку ему в голову, он еле успел пригнуть её. А когда поднял, было уже поздно: в мгновение ока взметнувшись с дивана, она заграбастала его, как птенчика, – вздымаясь выше потолка, застя солнце… гора урчащего мяса, Идолище Поганое, заклятый Полифем, охочий до человечины…
– Ли-иза… – захрипел он, упираясь в тушу обеими руками, – не ннадо… Мы же петь хотели… То не ветер вет-ку клонит, нне дубра-а… Пол-лиция… с саблями придёт… тебя в капусту… пор-рубит…
– Нишкни. – Кувалда обдала его луково-водочным букетом. – Лизка плясать будет. Сыпь, Егорыч! – заревела она и, стиснув Раскольникова за плечи, пустилась топать и раскачиваться. Он мотался тряпичной куклой в медвежьих лапах.
– На лужочку-бережочку! – орала она, как заведённая.
Рубашка на нём затрещала в подмышках, он рванулся что было сил, отскочил и забежал по другую сторону стола. Лизка от таких догонялок засмеялась во всю пасть, выказав серые редкие зубы, похожие на ногти. Глаза тоже были костяные и белёсые.
– Я Ульяна баба пьяна, – объявила она и, резко двинув стол, вдавила Раскольникова в простенок между окнами. Упал стул, загремела посуда, он, не глядя, схватил горшок с окна – страшно ожгло ладонь – и без размаха бросил в чудище. Попал в плечо, чудище зарычало, протянуло щупальце и выдернуло Раскольникова за волосы через стол на свою сторону, сдирая скатерть и громя посуду.
– Пусти, сука! – кричал он, колотя её руками и ногами, но ни до горла, ни до хари её не достигал.
Держа его почти на весу, она несколько раз пнула его по ноге, – так больно, что, вероятно, сломала, – и отвесила такую затрещину, что сразу сделалась ночь со звёздами. Он отшвырнут был на диван, но навалиться сверху она не успела: он ухватил ветку фикуса, сунул ей в рыло, а уцелевшей ногой лягнул в брюхо.
Орясина оторопела, но тут же, взревев: – Лютуй, котёнок! – принялась мутузить его с обеих рук. Что-то брызнуло, запрыгало по лицу, – бусы её разлетелись. Не то что крикнуть – вздохнуть он не мог. Крошево – вот во что его превращали. Он сумел вывернуться с дивана и под градом ударов пополз вдоль по обмороку бесконечным червяком под стол.
– Лютуй, котёнок! – Червяк был пойман за лопнувшие штаны, и чудище, расплющив его всей тушей, урча, принялось задирать на себе юбку. Дикая боль вдруг вонзилась в грудь, таким острым штопором, что и вонь, и жуть куда-то делись, он сделался маленьким-маленьким, пространство стремительно понеслось от него в тёмный кулёк с посверкиваньем и свистом, напоминающим паровозный. Вот и совсем всё померкло, исчезло страшное бремя с груди и ног, а звон всё разматывался, рвался и разматывался, делался то визгливей, то толще, – и превратился в истошный бабий вопль. Какие-то тени, они же звуки, мелькали, словно сквозь снегопад, вокруг, – он ничего не мог различить, пока не удалось повернуть голову и всё, что летало врассыпную, собрать в общую картину, пусть и единственно видящим глазом. Хозяйка, голося благим матом, лупцевала сестру сумочкой своей по чему ни попадя, а та, похожая на слониху, всё пыталась убежать на четвереньках и заваливалась с рёвом на пол.
Тут он снова рухнул в тёмный колодец и падал до тех пор, пока не долетел до воды. Вода омыла ему лицо, приговаривая прохладным голосом:
– Врёшь, не умрёшь, я же вижу, ещё меня переживёшь…
Раскольников попытался подняться с пола, но собственный крик опрокинул его навзничь. Всё тело терзало что-то стозевное и острозубое, каждая жилочка, каждый сустав болели, как напоследок. Он опять выпал в забытьё, очнулся, когда его затаскивали на диван. Я сам, сказал он, но звук не пошел из разбитого рта, – губы и пол-лица его не слушались, как и нога, – её будто перерубили. Самая же безумная боль была в боку и груди, она его просто удушала. Всё восприятие было, как одежда на нём, разодрано в клочья, он то и дело пропадал в вихрящейся тьме, встречался там с чем-то твёрдым и круглым и потом выныривал, словно проползя из одной ноздри в другую. Вспышками, когда удавалось остановить карусельно несущуюся голову, он что-то видел перекошенным зрением, вот Алёна Ивановна метёт с пола разбитую посуду… вот Лизавета сидит у стены мутной кучей, разбросав голые ноги на пол-комнаты, и блеет: – Я Ульяна баба пьяна… Ведьма кричит: – Башку! Ниже! – и лупцует её по голове окомелком, пока тот не разлетается на прутья, и дура начинает выть по-болотному… В рот льётся вода, вкусно, но больно, он хочет поправить кружку, но вскрикивает от страшной рези в руке, э, да у тебя палец вылетел, потерпи, миленький… Ему рывком дёргают руку, боль такая нестерпимая, что он забивается в свой чулан, задвижка теперь изнутри, уйдите все, он никому не откроет… Что-то колышется над остатками лица, ему еле удаётся приоткрыть глаз, – это хозяйка у изголовья подвязывает фикус и ворчит: – Да убейтесь вы все друг о друга, фикус зачем ломать…
Кажется, он обмочился, но почему он мокрый с ног до головы… это какие-то примочки по всему искорёженному составу… Последний глаз заплывает, он с трудом различает забинтованную свою руку… Дышать невмоготу, что-то зазубренное ковыряется в боку, зачем же его пеленать, пустите… Смирно лежи, у тебя рёбра сломаны, говорит строго ведьма, затягивая его в тряпичный корсет. Беспощадная боль топчет голову чугунными подковами, в переносицу будто раскалённое пенсне впивается, окантовывает глазницы и плавится, протекая огнём в мозг. Последнее, что он слышит, – это бабий голос с надрывом, даже не похожий на хозяйкин: – Ой, лишенько, она ж тебе сосок выкусила-а…
Иногда он понимал, что остался жив, иногда – что всё же умер, его причащают, обмывают, подвязывают челюсть, тяжелые пятаки вдавливают глаза, погребальный венчик стягивает лоб, и певчие, сменяя друг друга, отпевают его одним и тем же голосом. Если признать себя в живых, значит, он очутился в каком-то другом, оборотном времени, которое нарастает освежёванной мучительной плотью, совпадающей с его собственной. И это не сон, не может во сне так ужасно и протяжно болеть голова, он бы давно проснулся и оторвал её сам себе… Наяву это не получалось сделать, потому что он шевельнуться не мог из-за сломанных ребёр, – и потому ещё, что явь доставалась ему лохматыми горячечными лоскутьями, от которых он прятался по закоулкам беспамятства. По большей части он куда-то плыл, грёб, боролся с течением, отпихивался веслом от скал, тонул в водоворотах, отплёвывался горькой пеной… Пей, требовала ведьма, иначе не заживёт. С чем питьё, косорото спрашивал он и получал ответ: со словами. И он пил и валился в яму со снами, похожими на разрубленных змей, и все они пытались срастись кусочками бреда, чтобы задушить его, а он разрывал их, как Лаокоон.
Долго ли, коротко, спустя дни – недели – месяцы – времена года – времена боли – прорезалась щёлка на правом глазу, и Раскольников сквозь эту суженную оптику стал вытягивать из костоломных потёмок то, что от себя осталось, в ту реальность, которая ему отныне причиталась за некоторым вычетом. Безумной бранью он заслужил себе постель на диване, питьё из чайного носика и кормление с ложечки. Шторы на всех окнах были всегда задёрнуты, идиотка тихохонько плоской тенью двигалась вдоль стен и даже на кухне старалась не греметь; дрыхла она теперь на войлоке, растянувшись на полу от хозяйкиной спальни до передней. Алёна Ивановна с сестрой не разговаривала, зато вокруг него хлопотала днём и ночью, разом озабоченная и профессионально сосредоточенная – если колдовство можно счесть профессией – на возможности явить целительные свои таланты. Делала ли она перевязки, ставила ли компрессы, умащала ли осторожно его члены, подавала ли снадобья, – все манипуляции, вплоть до подсова лохани для оправки, сопровождались неумолчным бормотанием заговоров и молитв, она словно кутала его в словесный кокон ворожбы, где ему надлежало эмбрионально налиться и окрепнуть, чтобы потом поразить Божий мир неожиданным возрождением. …Утихни у раба божия Родиона кровь горячая, и щипота, и ломота… чтоб не было на белом теле никакой болезни, ни крови, ни раны, ни опухоли… В чародейство хотелось верить, вера успокаивала и размягчала, вплоть до того, что временами мерещилось, будто кости у него тоже мягкие, и скелет состоит из одних хрящей, даже зубы. …Течёт вода, а с ней беда, как с гуся вода, уносят воды все хворобы… И поила его наговоренной водой, пролитой через дверную ручку. Знахарские причуды сводились в основном к симпатической магии: от головной боли клала ему осиновое полешко вместо подушки, от шума в ушах («прибой Стикса») – клюкву в уши, на ранки – паутину, а уж из чего стряпала она свои настои и бальзамы, что в них набалтывала, – Геката знает. …Как у Господа нашего Иисуса Христа было пять ран – его раны не болели, не опухали, не кровавили – так пусть этот кровоток остановится, как у Господа нашего… У Раскольникова кровила уже лишь одна рана – полуоткушенный Лизкой левый сосок, он и ведьму больше всего тревожил, она то и дело ослабляла пеленальные ленты на его груди, смазывала и, нахмурясь, заговаривала прирасти к телу белому, зажить на груди молодецкой. …Прибежал хорь, утащил хворь, зарыл в овраге. Слетела моль, поела боль, пыльцой стряхнула. А кровь-то вся в закат ушла, а ночь-то рану затворила, месяцем заштопала… Ты зачем овцу поил? Она во хмелю себя не помнит. Вот и насусалились. Воротись я минутой позже – убила бы за здорово живёшь…
Нога у него уцелела, если и перелом, то без смещения, но голень распухла и ныла, он держал ногу с компрессом закинутой на диванный валик. Впрочем, то и не боль была в сравнении с мукой от сломанных рёбер, она его изводила с пыточным рвеньем, шелохнуться не давая ни днём, ни ночью, – он часто будил себя своими стонами. Вот боль, рассуждал он в паузе между забытьём и паузой, я её ощущаю, я сам и есть боль. Но может быть, боль тоже чувствует меня столь же пронзительно, и у неё нет другого способа себя ощутить. Тогда я пребываю в самочувствии боли, в её способе быть собой. Но ведь прогулка сама не гуляет, как сказано неважно кем. То есть боли самой от себя не больно. Это уже идея боли, и здесь мы с ней квиты… От такого заворота рефлексов головного мозга, – который всё сознаёт, ибо ничего не чувствует, – тяжелое воспалённое крыло, душными перьями его накрывавшее, делалось почти невесомым, он ускользал и плыл в тугих и гибких струях до тех пор, пока не приходилось отбиваться руками и ногами от нагрянувшего по его душу чудища со смрадной пастью…
Ведьма подносила ему кубок с дурманным зельем, он проваливался в колодец, нет, скорее, в выгребную яму с голодными пьявками, опять выныривал, и стосковавшаяся боль льнула к нему, запекалась огненным панцырем, шипами внутрь, и жаловалась на невнимание. Пожалей меня, боль-сиротинушку, отовсюду меня гонят, кроме как к тебе податься некуда… И превращала его в себя. Ещё какой-то тревожный зверь с пёстрой спинкой караулил его, ползая по стене напротив. За ним волочился длинный яйцеклад, стена под ним гнулась и пружинила… Во всей этой лихорадке у него сил не доставало подумать отуманенной головой, останется ли он хромым или кособоким или только окривеет, сделавшись сам себе циклопом… Как-то ночью, в разбелёных жидких сумерках он внезапно опомнился: ведь он должен идти – откуда-то отсюда куда-то туда, и немедленно; но и шагу не смог сделать – рухнул с воплем возле дивана, переполошив сестричек.
Стала вдруг пухнуть рука, на которой вправляли палец. Размотали повязку, – дело было не в пальце: вся ладонь воспалилась и стала гноиться – от впившихся в неё многочисленных иголок кактуса, который он метнул в кретинку. Два дня хозяйка вынимала их княжескими щипчиками, утешая песенкой «Стонет сизый голубочек..»
…стонет он и день и ночь.
Миленький его дружочек
отлетел навеки прочь…
Она вообще почему-то пела много про птичек, как Раскольников не очнётся – то про воробья, то про соловья, то про селезня, то про сокола ясного.
Птичка крылышки сложила
и от горя умерла.
Разлюбил меня мой милый,
разменял на три рубля…
Репертуар у девушки был безбрежный – от заклинаний до псалмов, от перемордованной под вкусы завалинки классики до хоровых-присядочных голошений. Как-то исполнила на колыбельный мотив мещанскую лирическую:
Полюбила я любовничка,
полицейского чиновничка.
По головке его гладила,
волоса ему помадила.
Обложила его ватою,
а он водку пьёт проклятую.
Мы катались с ним на лодочке,
разговор он вёл о водочке.
Испекла ему ватрушку я,
он запил её косушкою…
Затем мил-друг малодушествовал со штофом, с четвертью и с ведром. Заключалась баллада обиходным бабским фатализмом:
Я бы бросила чиновничка,
Да никак мне без любовничка.
Потому и пьём на пару с ним,
И ко дну идёт наш парусни-и-к!..
От такой горестной песни Раскольников впервые за эти дни усмехнулся – и узрел свет вторым глазом, щель приоткрылась поперк волдыря на правой стороне лица. В ту же ночь ему приснился сон без обычных ужасов. Привиделось длинное, с прогибом между приставкой и корнем, слово «пресловутый». Оно было в потёках бело-зелёного цвета, с бортиками по бокам. Потом пошёл снег, наступила морозная румяная зима середины века, ещё до гимназии, маленький Родя в башлыке скользил по льду и метал копьё в большую снежную бабу. Раскольников понял, что выздоравливает.
Хозяйка тоже это почуяла, и песенки ему стала петь задорнее, и кормить поплотней. Тут выяснилось, что у него шатается клык в нижней челюсти, он огорчился, но ведьма наговорила на соль глубокомысленную дичь про то, что у мёртвых зубы не болят, и велела высосать щепотку. Что как бы и помогло. Не совсем было понятно, откуда бралась провизия. Вероятно, сёстры ходили в лавку и на рынок, когда он пребывал в забытьи, усугубленном дурманом. Однажды было ему видение: возле дивана прохаживался, стуча коготками по половицам, пестренький петушок, что-то выклёвывал из щелей и пробовал голос, издавая хриплый писк.
– Знакомься, миленький, – проворковала Алена Ивановна. – Петя к тебе гости пришёл.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: