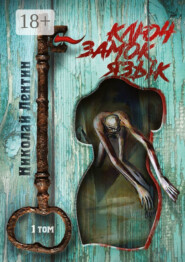скачать книгу бесплатно
– Отстаньте, сударь, – процедил молодой человек, обходя наглеца.
– Спорим, что отгадаю? Тут канделябра!
– Нет.
– Тогда статуя. Скажешь, нет?
– Нет.
– Темнишь, фитюлька, меня не отпаришь!
Прохвост хлопнул по свертку и выругался, уколовшись шипом сквозь бумагу.
– Мать твою в подпупие! Щас звездану за такие штуки!.. – зашипел он, брызнув злобой из-под сломанного козырька. И вдруг, резко развернувшись, захромал в обратную сторону.
Студент глянул поверх куля и догадался, в чём дело. Невдалеке у Львиного мостика высилась фигура полицейского унтера в мундире болотного цвета и дурацком кепи новейшего образца. Сверкая пуговицами на груди и похлопывая льва по белёному крупу, он что-то важно объяснял двум дамам-провинциалкам и в тоже время пристально наблюдал за скачками наглого вымогателя. «Grate, defensor»[1 - Спасибо, охранник.], мысленно произнёс молодой человек, адресуясь заодно и к обширному зданию полицейского управления за мостиком, – там тоже все окна, даже зарешёченные в первом этаже, были нараспашку, и за ними тоже дурели от жары стражи порядка, не в силах призвать к оному бесчинствующую погоду.
Свернув в Подъяческую, молодой человек плюхнул куст на первый подходящий приступочек и наконец выдохнул в тени. Почти пришёл и почти вовремя. Он покрутил головой, прислушиваясь, не бьют ли где-нибудь часы. Своих часов у него не было, а когда были, тоже не помогли бы, – он их ходящими и не помнил. С часов-то всё и началось. Картузом он промокнул потное лицо. Мессидор, то бишь жатва, – так именовался этот месяц в республиканском французском календаре, вот он и потеет, как хлебороб. Вдруг на голову закапала вода – отнюдь не дождь. На балконе мезонина над ним мелькнула поверх ящика с цветами рука с кувшином.
– Благоволите ещё водички!
Из цветов приподнялся чёрный локон, за ним чёрные глазки, и следом явилась девичья румяная весёлая мордочка.
– Ещё окропите, мадмуазель! Вы ведь всех прохожих поливаете?
– Нет, только брунетов! – хихикнула барышня и наклонила кувшин.
Молодой человек освежился с удовольствием под струйкой и прижал руку к сердцу.
– Сударыня, вы спасли жизнь изнурённому страннику! Я гоним судьбой, спасаюсь от врагов, подо мной пало три коня, – а сейчас я расцветаю, как ваши цветочки. Что вы там выращиваете? – мне снизу не видать.
– Анютины глазки.
– А анютины ушки есть? А анютины ножки?
Девушка залилась на всю улицу.
– Есть! Всё есть!
– Не верю! Покажите.
– Вот вам!
И сквозь балконные столбики высунулась в самом деле маленькая туфелька. Скажите, какая плутовка, и ведь совсем молоденькая.
– Как звать тебя, ангелочек?
– Вперёд своё имя скажите.
– Скажу. Выходи вечером на балкон – я обратно пойду, тогда и имя узнаешь, и чин, и титул. А сейчас скажи: пять часов уже било?
Наверху послышалось сварливое ворчанье, что-то вроде «я тебе и скажу, и покажу» – и девушка, ойкнув, исчезла. Хорошо бы завести себе такую карамельку, подумалось молодому человеку. Мысль, порожденная длительным воздержанием: у него женщины не было месяца четыре, с зимы. А денег с Троицы. Последнее обстоятельство угнетало больше, к тому же от него зависело первое.
Из лудильный мастерской в подвале напротив тупо и мерно, как метроном, застучал молоток – по какому-нибудь гнутому самовару. Гнутый, пнутый, пресловутый… Студент вздохнул и потащил свою кладь к месту назначения. До которого было рукой подать: через три распивочных на той же улице.
Возле подворотни стояла ломовая подвода, на ней ножками кверху привязан был огромный стол, будто четвероногое чудище, затравленное на какой-то мебельный охоте. Толстая саврасая лошадь махнула приветственно хвостом, переступила лохматыми копытами и шлёпнула к ним кишечное изделие.
Молодой человек вошёл в подворотню, похожую на разинутую по жаре пасть с двумя клыками-отбойниками в нижней челюсти, и, смотря не столько перед собой, сколько под ноги, едва не налетел со своей охапкой на двух человек, стоявших как раз у нужного ему подъезда. Он принёс извинения, но на него не обратили внимания. Ражий усатый дворник стоял навытяжку перед господином в сюртуке цвета кофе с молоком и получал от него распекание.
– А я говорю – не мог ты его не приметить. Либо как зашёл, либо как вышел. Вспоминай: солидный такой, с бакенбардами…
– Никак нет, ваше высокородие, вот как на духу, – гудел дворник, держа картуз на согнутой руке, как солдат кивер на молебне. – Мимо меня муха не пролетит, я бы помнил…
– Дозвольте пройти, – попросил молодой человек.
Распекающий господин взглянул на него, вдруг, ничего не говоря, оторвал клок бумаги от куля с кустом и вновь обратился к дворнику.
– А может ты пьян был, оттого и не видел ничего?
– Ей-богу, ваш-скородие, как можно, я ранжир знаю, у меня акурат, муха не пролетит…
– Аккурат? А что это у тебя за сор на дворе?
– Где?
Кофейный господин вытянул ногу, указывая на бумажный комочек, им же самим смятый и брошенный на землю.
– А вот.
Дворник склонился в три погибели, шаря взглядом на земле.
– Э, да ты слепой, братец. Какая уж тут муха.
– Ваше высок… Я всё… чин чином… – забубнил дворник, в отчаянии готовый сожрать поднятую бумажку. – У меня ранжир… это ветром нанесло…
– Гнать тебя пора, Анисим. У тебя весь дом обнесут, ты и не заметишь. Ты, небось, нас двоих не отличаешь. – Тут изобретательный господин повернулся к студенту и обозначил шаг вбок, как бы освобождая тому проход, но вместе с тем не сдвинулся с места, зато обхватил его пристальным взглядом, словно запечатлевая в памяти. – Вы, милостивый государь, живёте здесь или в гости приглашены?
– В гости. По приглашению, – отрывисто сказал молодой человек, которому не понравился этот цепкий взгляд. – Здесь где-то было. – Он ощупал свой карман. – Отпечатано на веленевой бумаге. Забыл на рояле.
– К кому, если не секрет? – спросил пытливый господин певучим голосом, сменив говорок, используемый для дворника.
– В четвёртый этаж, – дал хамоватый ответ молодой человек, невзирая на добавленный в кофе сахар.
– К Алёне Ивановне, – услужил дворник.
– Ага, – оживился кофейный господин.
Где-то в верхних этажах за спиной забренчала мандолина, и баритон с сопливинкой запел:
– Почему бы нам
не напиться в хлам,
почему бы нам
не пойти по сторонам, —
хынча, хынча-ча,
хынча, хынча-ча!
Кофейный господин недовольно сморщился, вынул платок, утер вспотевший лоб и повернулся к студенту.
– А вы случаем не сталкивались здесь с надворным советником Крюковым? Он тоже в четвёртый этаж хаживал, последний раз его вроде бы здесь и видели. А дальше, как говорят в романах, следы теряются. – Вместо платка в руках у любознательного господина появилась фотографическая карточка. – Взгляните, может быть, встречали. Объемистый такой индивид, во цвете лет, на руке золотой перстень, – не примечали?
– Позвольте, позвольте, – заинтересовался молодой человек и сунул свой груз в руки дворнику. – Подержи, братец Анисим. Да-да-да, знаю, знаю… – Он покрутил карточку и так, и сяк, и против солнца, и на солнце, и на вытянутой руке и даже перевернул вверх ногами. – Знаком, знаком мне этот тип… Невоздержанность в страстях, уголовные наклонности, печать вырождения на лице… Должно быть, с казенными деньгами бежал? Но – увы – именно с данным субъектом – нет, не встречался. Не имел чести. – Он вернул фотокарточку, забрал у дворника куль и, кивком указав тому придержать дверь, добавил: – Хотя в этом, полагаю, было бы мало чести.
«Скотина полицейская», добавил он внутри себя, войдя в подъезд. Здесь было тихо и прохладно после уличного пекла, как в библиотеке; и лестничные марши походили на съехавшие стопки книг. Сильное сравнение для чёрного хода. Впрочем, для некоторых квартир с урезанной планировкой – в частности, для той, в которую он поднимался, – вход был общим и единственным, посему содержался в относительной опрятности. Третий, даже четвёртый раз поднимается он по этой лестнице. Впервые месяца полтора назад, когда вышли деньги, полученные от Бакста, который как укатил в свой Житомир за наследством, так и сгинул. Обещал вернуться через три недели, поставить в типографии чудо техники – датскую скоропечатную машину и с её помощью разорить всех конкурентов. – Покамест разорился один и без того бедный студент, исполнявший у Бакста обязанности корректора и временами пробавлявшийся переводами немецких гигиенических брошюр и рекламных прокламаций. Ему предстояло перебиться до осени, когда либо вернётся Осип Игнатьевич, либо подвернутся уроки с оболтусами. К тому же из дома должны что-нибудь подкинуть. В конце концов всё взвесив, – взвешенности очень способствовала недельная диета на спитом чае и хлебе, – молодой человек решился на то, от чего удерживался во все четыре года жизни в Питере: заложить отцовские часы. Вот сюда он их и принёс – «в четвёртый этаж, к Алёне Ивановне», твёрдо решив биться за червонец и не падать ниже восьми рублей, – а получил неожиданно двенадцать. Часы были старые и не на ходу, и ключик был утерян, – почти «нож без рукоятки со сломанным лезвием», – но пробы хорошей и фирмы знаменитой: «Breguet», её-то, вероятно, он и недооценил. Пресловутая Алёна Ивановна оказалось вовсе не такой Бабой-Ягой, как её расписывали. Выплаты по процентам назначила, правда, помесячно, но когда он пришёл в назначенный день и попросил отсрочку, милостиво её даровала, вдобавок ссудила рубль из выкупной суммы и даже напоила чаем. А к чаю шло варенье пяти сортов, да калачи, да масло, да сыр с колбасой… Он крепко на подобный чай надеялся, когда последний раз – неделю назад – явился с благородной целью выцыганить ещё рубль. Однако уже шёл Петров пост – «прижми хвост», угощенья было только баранки и варенье, зато поднесли рюмочку какой-то лихой настойки. На уверенья, что вот типограф приедет… из дома пришлют… осенью уроки пойдут… – Алёна Ивановна отвечала не вполне вразумительной поговоркой «посул не стул, отказ не деньги»; но потом, и сама приняв рюмочку, смягчилась и велела прийти через неделю: у неё-де именины, а за это время «что-нибудь устрою для вас, батюшка». Молодой человек стал отказываться: именины – дело семейное, он-то тут каким боком… Но было сказано, что будут только сама хозяйка с сестрой, так что пусть приходит без чинов. «Я вас, может, батюшка, удивить хочу».
Это фраза тешила оголодавшего студента целую неделю (которую он протянул на выданный целковый: «вот тебе рупь, ходи с алтына»). Он довоображался до того, что старуха решила сделать его своим наследником, а пока помесячно будет платить ему стипендию. Ладно, пусть не наследник; но рублей пятьсот в рассрочку лет на пять могла бы дать свободно; хотя бы 100 рублей – ведь денег куры не клюют. Или вот так: старуха смертельно больна, ей недолго осталось, и она хочет назначить его опекуном своей сестры-идиотки… На таких мечтаниях самому немудрено свихнуться.
Хотя сестра бессомненно была идиотка, – но не слюнявая кликуша, а полная и абсолютная дубина в сажень ростом. Ходила, как солдат, размахивая руками, аршинными шагами в громадных башмаках, с тупым выражением на роже. Эту орясину знал весь околоток, и студент ещё до того, как стал вхож в дом, встречал её на улице, – она бороздила плюгавую публику, словно носовая фигура фрегата, грубо тёсанная топором. При своих невозможных статях Лизавета неуклюжей не была: ловко двигалась по квартире, на ней лежали готовка и уборка, сестре была богомольно послушна, главным же достоинством имела молчаливость до немотствования, – например, молодой человек за свои три визита услышал от неё только два слова: « Кто там?», басом сказанные через дверь. Когда он оказывался с ней рядом, в нём что-то тревожно поджималось от её физической мощи и тупой одержимости; сам же он при своём хорошем росте был двумя головами её ниже. Слава Богу, у процентщицы дело было поставлено так, что орясина за стол с гостями не садилась: принесёт самовар и замирает с открытым ртом, привалясь к дверному косяку, только шевелит ручищами под передником, содержанием речей не интересуясь, но любопытствуя в отношении метода: как люди могут изо рта такие длинные и гладкие слова вытягивать.
Нет, конечно, насчёт сестры он загнул, лучше другой сюжет: студент напоминает Алёне Ивановне рано умершего любимого брата, – и вот в престарелой своей слезливости, растопившей зачерствелое сердце… А куда ещё ей деньги девать – и немалые, надо думать: питерский ростовщик – всё равно что пират на Карибах. Нельзя сказать, что сёстры жили богато, – обычная мещанская обстановка: сборная мебель, суконная дорожка на полу, по стенам какие-то лубки, в углу божница – и полупоповский – полулабазный запашок. Квартира была в две комнаты: общая, которую хозяйка именовала «конторой», – «пройдёмте в контору, сударь», – ибо в ней вершились дела меняльные; и её личный апартамент – «келья», куда утаскивалась добыча, оттуда же являлись деньги, – там, за портьерами, должно быть, сундуки ломились от закладов, а кубышка от сбережений. Подгребая под себя богатства неправедные, сёстры были не только богобоязненны, но и человекоопасливы. «Мы, батюшка, сироты, женщины беззащитные». Хотя какая ещё защита нужна при гренадёрше Лизавете. Однако сестрёнки какое-то время держали для спокойствия собаку. Студент её не видел, только слышал, как скреблась и подвывала хрипло за кухонной дверью. Желая угодить, он однажды предложил её выгулять, но хозяйка не доверила: вредная, мол, тварь, убежит; а в последний раз псина уже не выла, – отдали или всё-таки сбежала. Кошки у них тоже не было, и молодой человек подумал, что следующим после цветка подарком может быть котёнок, – Мурка вот-вот родит, – а он скажет, что знакомая генеральша пристраивает; разумеется, если процентщица слегка его облагодетельствует…
Взвизгнуло и заскребло совсем не по-библиотечному, – пошла пила драть с грубым сладострастием древесную плоть. В третьем этаже с прошлой недели как раз под ростовщичьим логовом начали отделывать квартиру, входная дверь была снята с петель и отставлена к стене рядом с малярной утварью, – и звуки ремонта вместе с зычными голосами гулко разносились по лестничной клетке. Молодой человек поднялся на верхний этаж, сильно споткнулся на предпоследней щербатой ступени, но куст удержал, поставил его на пол и тут же спустился на площадку ниже к чуланчику отхожего места. Задвижки не было, надлежало придерживать дверь за продетую верёвочку; но сейчас в этом не было необходимости. Долго-долго летела струя в смрадном жерле, чтобы запрыгать с тарахтеньем в жиже на дне, распугивая червей и каракатиц, – или кто там нагуливает жир в питательных отходах. А если не выгорит, подумал молодой человек, застёгиваясь, то он утащит у карги мыло и пойдёт мыться на острова. Знал он одно укромное местечко на Елагине, где можно было и поплавать, и помыться. Это будет даже лучше пива.
Он спустился ещё на один марш, к квартире, где шёл ремонт, наклонился к ведру с известью и провёл пальцами по запачканному краю.
– …Пойду я по бережку!..
Внутри тюкали топориком и молодой тенорок выводил:
– …Кину я колечко
да в пучину водную,
чтоб забыть навечно
змеюку подколодную!..
– А по потылице? – прозвучал другой – низкий – голос. – Ты настоящим манером работай, плашку не кромсай, а стёсывай, потом шкурь… Тебе только собачьи будки делать, и то не всякая шавка жить захочет.
Молодой человек вернулся на последний этаж, к единственной двери на нём. Она была обита гнедой клеёнкой и простёгана хером ремешками на широкошляпных гвоздях. Он взялся за набалдашник звонка, отполированный сотнями ладоней, потными от волнения. Перед этой дверью молились и слёзы лили, как перед чудотворной иконой… взывали к ангелам и угодникам и крестились, крестились… а потом, может, пинали в сердцах и били кулаками с проклятьями. Оттого, должно быть, и войлок понизу из дыр торчит.
Если бы всем везло, то никому бы не везло. Ему повезёт.
Молодой человек дёрнул звонок, прислушался к резкому слесарному звяку колокольчика и дёрнул ещё раз. Затем поднял с полу свою ношу и сквозь шелест обёртки снова вслушался в тишину за дверью. Быть не может, чтоб никого не было, он так просто не уйдёт…
– Кто там? – прогудело изнутри.
Глава II. МЫЛО
Высоко воздев куль и тыча им едва ли не в физиономию Лизавете, гость заставил её попятиться из передней и торжественно вступил в «контору». Все три окна были занавешены, но солнце палило и сквозь ткань, кладя на обстановку абрикосовые оттенки. На столе уже красовался многообещающий натюрморт, поэтому куст опущен был на стул.
– Батюшки, это что ж ты мне принёс? – охнула хозяйка. – Никак канделябр где стащил?
– Почему же сразу «стащил». Я, Алёна Ивановна… – Молодой человек рывками сдёргивал обёртку. – Я, Алёна Ивановна, друга вам принёс. Целый год растил для такого случая. Дома у мамаши на окне такой же стоял. Посмотрю на него в минуту грустную, вспомню, всплакну… Слезами, можно сказать, поливал… С днём ангела Вас, многочтимая Алёна Ивановна!
– Шиповник! – слегка удивилась хозяйка. – Ну, пусть будет, я цветы люблю, они меня тоже, видишь, сколько их у меня, вон даже какая шишка растёт.
Так она назвала щетинистый кактус; кроме него по окошкам стояли герань, фиалка, ещё что-то пушистое, – почти все цвели, лимонное дерево даже гнулась под плодами; вьюн из горшка лез коленцами к божнице; а в углу возле дивана тянулся из кадушки к потолку фикус в человеческий рост с огромными зелёными пощечинами.
Молодой человек потянул носом и покрутил испачканной рукой.
– Маляры весь подъезд замарали. Мне бы руки помыть.
Лизавете было указано отвезти его на кухню, что она исполнила, отдернув ситцевую занавеску так, что махнула ей гостя по лицу. Вот откуда шёл сдобный дух: на кухонном столе остывал большой, со шляпу с полями, пирог под тараканьей корочкой. Лизавета молча ткнула пальцем в рукомойник и унесла пирог в комнату. Молодой человек зазвякал над тазом, с удовлетворением заметив два обмылка на полочке. Кухонное окно было распахнуто во двор, оттуда доносилось треньканье, и знакомый уже влажный баритон уговаривал:
– Ты моя песня,
ты моя сказка,
сядем мы вместе,
глазками в глазки
и-и-и предади-и-имся!..
Гость мыл руки и оглядывал кухню, – в ней он был впервые. Довольно большая, на два окна, раньше сообщалась с прихожей, теперь на месте заделанной двери устроен был открытый шкаф со склянками и разной дребеденью на полках. Плита с двумя конфорками, самовар, чугуны, прочая утварь; в углу – груда поленьев, в другом дощатая выгородка от пола до потолка с дверцей на засове – кладовка или отхожее место; на стенах – венички сушеных трав. Смачный баритон плавал под окнами на дворовой духоте, как жир на супе.
Только не бойся,
только доверься,
сблизим по-свойски
губки и сердце
и-и-и наслади-и-имся!..
Едва успел спрятать мыло в карман – ввалилась Лизавета, пригнув под притолокой рогатую голову (она косынку повязывала по-хохляцки, так что концы торчали надо лбом), и сунула ему утиральник.
– Садитесь, голубчик. Вот собрала на стол всякость разную закусить.
Ого: голубчик. Он уселся на деревянный стул с высокой резной спинкой с навершием в виде раскинувшего крылья ангела. Сабельными взмахами хозяйка разрезала пирог, одуряющий запах капустника щекотнул ноздри. Алёна Ивановна имела вид самый праздничный, под стать поднесённой дикой розе: платье зеленоватых тонов, красный гарнитуровый платок на плечах, в пышных волосах красный же гребень. Вроде даже щёчки и ушки подрумянены. Но сервировка была краше: на камчатной скатерти графинчики-бутылочки, самоцветно облизываясь, обсуждали промеж себя, чем подобает их закусывать – пупырчатым или сопливым, то бишь огурчиками или грибочками; колбаса изящными копытцами обегала блюдо вокруг сосредоточенного, как столяр, сыра; и селёдочка плыла на лодочке, анатомически к ней приспособясь располосованным организмом, и сама себя хотела попробовать с колечком луковым и укропной трухой.
– Самовар, извиняйте, не ставили: больно жарко.
– Так больно или жарко? Бывает что-нибудь одно, Алёна Ивановна, – изволил пошутить гость, сам себе подхихикнув. Ему нравилось изображать из себя этакого хвата-приказчика, что, как он полагал, должно было снискать одобрение в мещанских кругах.
– Бывает порознь, бывает вместе, бывает одно в другом, – изрекла хозяйка. – Ой, да вы закусочку кушаете, а пригубить забыли. Кваском запейте, Лизка моя сама делала.
Молодой человек обнаружил, что, действительно, умял незаметно для себя кусок пирога. Удержаться трудно было, он обожал капустные пироги. И вообще всё здесь обожал, при взгляде на сыр аж зубы чесались. Похватал бы всё руками, кабы не был принуждаем к степенству обхождением благочинной хозяйки. Квас, который та налила ему из кувшина с голубыми цветочками, тоже был исключительно хорош, ядрёный, почти как с хреном.
– Стулья у вас знатные, – сказал он. – Архиерейские, не иначе.
– Да ну их, – вздохнула хозяйка. – Бог знает что иногда закладывают.
И скатерть у тебя закладная, и посуда, подумал молодой человек. Ловко устроилась.
Процентщица между тем сделала знак сестре, и та, допреждь столбом стоявшая у кухонного проёма, тоже присела к столу, перед тем с важностью нацепила на себя, достав из кармана передника, крупные жёлтые бусы. Что не сильно оживило её линялый затрапез. Гость как единственный мужчина на торжестве был призван разлить водку, – «холодненькая, Лизка моя на ледник носила», – после чего разразился здравицей.
– Чествуем вашего ангела сегодня, Алёна Ивановна, – ко взаимному удовольствию. Он сейчас, конечно, среди нас и вообще каждый день на службе. Бдит, хранит и помогает. Отсюда все ваши успехи, Алёна Ивановна, на этом свете и, будем надеяться, на том тоже. Ангелу-хранителю – ура! и нам выпить пора!