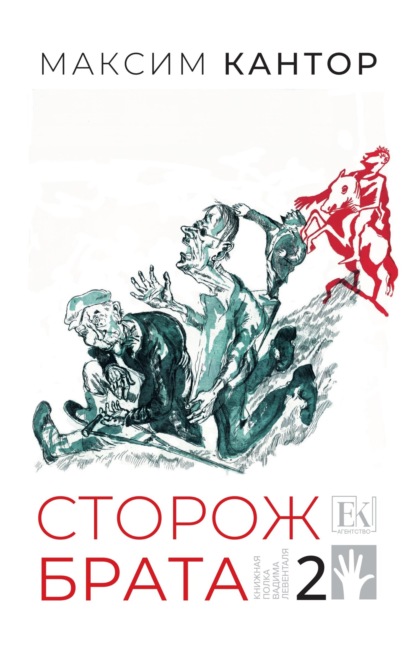
Полная версия:
Сторож брата. Том 2
– Я вас не понимаю.
– Вспомните, милая Соня, что начало прошлого века в России – я говорю о революционных десятых годах – стало временем русского религиозного Ренессанса. Флоренский и Сергий Булгаков, Бердяев и Розанов – они ведь эхо Ленина и Бакунина. Вы задумывались над этим?
– Каков вывод?
– Сакральная природа революции. Добавьте сюда Первую мировую войну. Революция выпестована Первой мировой, как Парижская коммуна – Франко-прусской. Мне представляется, что Россия, когда она атакована всем миром, начинает вырабатывать в себе фермент революции. Так было в Отечественную войну тысяча восемьсот двенадцатого года, так было в Крымскую войну, так было в Первую мировую, так было в Великую Отечественную и, полагаю, так происходит сейчас. Россию выталкивают в революционное сознание. Сегодня происходит неожиданное: Запад решил убить капитализм в России, капиталисты бегут. Предположение смелое, и я не хочу ошибиться, высказывая его. Скажу иначе. Возможно, Россия – гнилой корабль, который постоянно на грани катастрофы. Но когда крысы бегут с корабля, корабль всплывает. Но ты сам – крыса, бегущая с одного корабля на другой, и оба тонут, подумал он.
– Марк Кириллович, мне трудно уловить вашу мысль. Россия – гнилой корабль, империя, идет ко дну. Согласна! Писатель Зыков это прямо говорит! И моя сестра каждый день про это пишет. Но революция и Россия – понятия несовместимые. Революционная страна – Украина!
– Мы в плену магического слова. Идея революции может возникнуть только сейчас. Надеюсь, России снова дан шанс совершить революцию.
– Вы шутите?
– Это причина моих расхождений с братом. Старший брат считает, что предназначение России – скреплять мир идеей Софии, своего рода империей Любви. Я полагаю, что миссия России – во всемирной революции.
– Неужели вы говорите эти страшные вещи всерьез?
– Я вам все объясню.
Лекция – это не книга; если не интересно, пусть не слушают. Когда-то, теперь уже давно, он намеревался написать книгу о религиозном сознании; потом передумал.
Жена Мария сказала ему так:
– Попробуй сначала объяснить детям.
– Я не смогу.
– Тогда и писать не стоит.
Мария никогда не говорила много слов подряд, но Рихтер понял.
Он все же спросил жену:
– Но ведь бывают случаи, когда надо писать?
– Да. Если война или потоп. Чтобы рассказать. Даже если не поймут.
– Спасибо, жена.
Марк Рихтер продолжал:
– Вопрос надо поставить так: насколько гуманистические ценности равенства и братства, которые революция противопоставила угнетению трудящихся и бесправию народа, соответствуют идеалам Нагорной проповеди? Разве свобода, равенство и братство противоречат заповедям первых христиан? Пролетарский поэт Маяковский называл себя «тринадцатым апостолом», а революцию считал поновлением Завета. Известно, что первоначальным планом Робеспьера было опереться на две силы: на якобинцев, но одновременно и на «низшее духовенство», на те восемьдесят тысяч священников, что испытывали гнет клира; Робеспьер выдвинул предложение разрешить низшим клирикам браки – и получил многотысячные отклики поддержки от священников. То, что Сталин вернул Православие (преследуемое в первые годы революции) во время Мировой войны, можно рассматривать как циничный расчет сатрапа; можно усмотреть в этом возвращение классической триады власти («самодержавие, православие, народность»), но можно увидеть идеал равенства – ибо христиане равны перед Богом так же, как солдаты перед долгом. Долг перед другим, он – общий, как для революции, так и для христианства.
– С этим не могу согласиться, Марк Кириллович! Христианами становятся добровольно, а в армию призывают. Люди идут служить несправедливости. Поверьте, я и люди моего круга такие базовые вещи отлично понимаем!
Соня принадлежала к той чудной московской интеллигенции, которая ощущала себя держателем нравственных акций России. Они вложили всю свою страсть в ненависть хладнокровному офицеру с азиатским лицом, хотя лично Путин им, обеспеченным столичным жуирам, не сделал ничего дурного и даже не обложил их налогами. Никому из «оппозиционеров» не приходила в голову мысль «ходить в народ», как то делали народники девятнадцатого века. «Народников» было принято презирать за то, что те проложили путь ненавистной Октябрьской революции, устранившей привилегии образованного класса и, как считалось, отбросившие Россию вспять от цивилизации. Народников ненавидели за то, что те «разбудили» злого Ленина. Самое слово «народ» было презираемо – косная, бесперспективная масса двуногих; собеседником оппозиционера стал просвещенный капиталист. Оппозиция, да! Хотя никто из бойких протестантов ни разу в жизни не держал в руках «Философию истории» Гегеля, им мнилось (нет, они были убеждены!), что все то, что совершалось на территории одной шестой суши, было сделано закономерно и справедливо, исходя из интересов высшей «прогрессивной» поступательной рыночной цивилизации. Приватизация, рынок, конкуренция – все это опровергает революцию, считали они. Революции устраивает народ, чтобы отнять честно заработанное элитой.
– Вы правы в одном, Соня, – сказал Марк Рихтер. – Революции часто становятся инструментом захвата власти и порабощения. Так было с Октябрьской революцией. Так же точно обстоит и с украинской.
– Как вы можете… – ахнула Соня Куркулис, – герои шли на ружейные дула… Героям слава!
– В религиозных войнах в атаку идут то католики, то протестанты. Я имел в виду иное. Это важно понять.
– Я вас слушаю.
– Революции – все известные мне революции – устраивали во имя социальной справедливости и во имя равенства. Революции происходят потому, что терпеть угнетение невыносимо – и тогда возникает план: как изменить жизнь общества. Идеологи революций поднимают народ ради общественного спасения. Соня, революционер – это тот, у кого есть программа спасения Отечества. Революционеры исповедовали доктрины Марата и Бабёфа, Фурье и Сен-Симона, Маркса и Томаса Мора, Ленина и Бакунина, Грамши и Либкнехта. Потом – бывало часто! – по плечам революционеров приходил диктатор: Наполеон или Сталин присваивали себе победы революции. Но сама революция от этого не меняла пафоса! Коммунистов сажали в лагеря другие коммунисты, якобинцы отправляли на гильотину жирондистов – но революционеры продолжали верить в идеалы Руссо и Маркса! Идеал на гильотину не отправишь. Идеал революции бессмертен. Только не на Майдане.
– Почему?
– Вы где-нибудь слышали о революциях, вождями которых выступают миллиардеры Сорос и Рокфеллер? Это же противоречит здравому смыслу. Вы читали о революциях, за которые борются капиталисты всех стран, в то время как они могли бы помогать голодным в Африке?
– Данная революция не социалистическая, а национально-освободительная!
– Борется с русской империей?
– Вот именно! С империей борется! – Соня привстала и руку протянула вперед, к процветанию предпринимателей и частного сектора.
– А за что борется? За присоединение феодальной элиты к гигантской капиталистической структуре? Или за права трудящихся своей страны?
– Но ведь революции бывают не только социалистические! – крикнула Соня в отчаянии. – Зачем все сводить к социализму! Существуют революции демократические! Да! Либерально-демократические революции!
– Как Февральская?
– Да! Да! Как Февральская!
– Соня, для революции нужна программа. Хотя бы черновик плана. Звучит один лозунг, только тот, что произнес Гучков, военный министр Временного правительства Февраля. «Мы должны все объединиться на одном – на продолжении войны, чтобы стать равноправными членами международной семьи». Наши конвоиры повторяют его слово в слово. И ничего больше.
– В этом отношении все ясно! Украина стала форпостом Запада! Украина желает идти путем Европы!
– Каким именно из путей? Таковых несколько.
Соня Куркулис хмурилась и не соглашалась.
– Вы не будете отрицать, Марк Кириллович, что народ предал интеллигенцию. Значит, мы не должны давать народу программу.
– У вас программы нет, – сказал Рихтер.
Что мог Рихтер сказать Соне? Интеллигенты путинской поры, думал он, тяготились тем, что косное население не понимает своего предназначения – пойти в перегной. Не за народ, отправленный нынче умирать, болела душа: мобилизованных дураков презирали. Интеллигенты русской столицы страдали за порушенный комфорт убеждений, за хорошо забаррикадированное невежество, которое было декорировано корешками нечитаных книг и общими фразами, повторяемыми в гостиных. Прогрессивное сознание не требовало ни ежедневного чтения, ни сомнений, ни знания жизни другого. Требовалось усвоить нехитрую мантру: «западная цивилизация = рынок + демократия + технологический прогресс», и эта мантра, многажды проговоренная в кружках и редколлегиях, держала интеллигентов в тонусе. Сегодня, во время войны с Украиной, интеллигенты вложили всю энергию обиды от разрушенной мечты, всю энергию, направленную на обеспечение комфортного колониального существования, – в ненависть к азиату, воплотившему бунт варварства против цивилизации.
Автор должен заметить, что сам Рихтер, несмотря на свою эмиграцию, был точно таким же интеллигентом, и такой же упрек он должен был бы адресовать прежде всего самому себе.
Не революция на повестке дня, нет! Для интеллигента подлинной революцией является истребление варварства.
– Я поняла, как вам надо ответить! – воскликнула Соня Куркулис. – Революция сегодня – это не борьба с капитализмом! Это борьба цивилизации с варварством!
– Как вы определяете варвара? Леви-Стросс однажды сказал: варварство – считать, что существуют варвары. И апостол Павел говорил о том же. Давайте начнем с того, что уравняем «цивилизацию» в правах с «варварами».
– Революция и религия? Не смешите!
И в заметенном снегом поезде, стоящем в российских снегах, Марк Рихтер подумал, что единственный достойный выход из Столетней войны – это путь Джироламо Савонаролы.
– Кристоф, – спросил Марк Рихтер у попутчика, зубастого социалиста, – вы никак не связываете свое христианское имя с вашей социальной позицией?
– На что вы намекаете? – зубы веером и подозрительный взгляд.
– Скажите, – спросил Рихтер польскую монашку, – вы готовы ради веры в Иисуса строить республику нищих?
– Как в Донецке? – спросила католичка и зло засмеялась.
– А вы, уважаемая Лилиана, как видите вы социальную структуру победившей Украины?
– Основанной на европейских идеалах!
– Петеновских или деголлевских? Согласитесь, это не одно и то же.
Лилиана не сочла нужным ответить, а лимонно-рейтузный комиссар густо рассмеялся.
– Лишь бы не путинских!
– Уважаемые попутчики, – сказал Марк Рихтер, – уж коль скоро поезд стоит и война, судя по всему, началась, у нас образовалось время выяснить, ради чего эта война идет.
– Неужели не понятно? – рявкнул Грищенко.
– В том-то и дело, что мне не очень понятно. Скажите просто: вы собираетесь строить общество социалистическое или капиталистическое? Это же простой вопрос.
– Вот-вот! – вмешался Кристоф, ему удалось подхватить нить разговора. – Пусть они нам ответят. Капиталисты вы или социалисты? А ну-ка, скажите, революционеры! Вы, Рихтер, молодец, правильный вопрос им задали. А то я было решил, что вы из этих, из попов. Крест не носите?
– Что вы, Кристоф, – сказал Марк Рихтер. – Мне до попов далеко. Но крест ношу.
Поздно, думал он, от христианства в революции ничего не осталось. Теперь это уже будет не христианская революция. Сервисный капитализм так называемой «христианской» цивилизации фактически ликвидировал пролетариат Запада, переместив производство в страны Третьего мира.
Это не означает, что пролетариат как таковой исчез. По-прежнему существует огромная масса людей, производящая продукт, прибавочная стоимость которого достается западным менеджерам, организаторам производства. Масса управляемых людей должна именоваться «пролетариатом» ровно на тех же основаниях, на каких именовался «пролетариатом» рабочий класс Англии с отчужденным характером труда. Однако «осознание права» и «революционный характер класса» оказались в современной истории привиты к культуре мусульманства (или индуизма), а не христианства, как то было во время Маркса. И это принципиальный пункт. Маркс в своей революционной теории исходил из того, что грядущая пролетарская революция и коммунистическое бесклассовое общество являются логическим выводом из христианства. Вот оно, наследие Этьена Марселя и кордельеров. Пролетариат – это своего рода «первый христианин», возвращающийся к истокам христианской морали, а «Капитал» есть поновление христианского завета любви к ближнему.
Перемещение труда (и перемещение пролетариата, революционного класса) на Восток, в мусульманские страны, лишило концепцию пролетарской революции ее христианского базиса. Маркс руководствовался ренессансной моделью свободного труда, его нравственным идеалом оставался труд христианского гуманиста – свободный труд, добровольно отданный на благо Республики. Эта христианско-гуманистическая концепция превращала европейский рабочий класс в носителей ренессансной модели общежития. Однако производство, вынесенное за рамки христианской цивилизации, перевернуло концепцию Маркса: отныне христианское общество не может представлять ренессансную модель гуманизма – а мусульманский пролетариат не связан с европейской ренессансной традицией никак.
Таким образом, капитал (в неолиберальной редакции) стал могильщиком ренессансной концепции свободы. Мутация, занявшая сто лет, стала очевидной в середине двадцатого века, а в двадцать первом веке сожалеть об утраченной ренессансной эстетике поздно. Нам не на что опереться.
Уже никогда свобода не будет равна равенству, а прекрасное не будет тождественно справедливости. Украина хочет войти в ту Европу, которой прежде не было, – в Европу менеджеров.
Все изменилось. Уравняв граждан принципом христианского гуманизма, Просвещение произвело «авансом» всех христиан в тружеников единой семьи. Но христиане перестали быть тружениками; нет единой семьи.
Примечательно в данном рассуждении было то, что думал так человек, сам предавший свою семью. Но мысль эта, столь очевидная, в голову Рихтеру не приходила.
Пролетариат, с ним и революционная идея, а вместе с ними концепция общей семьи народов ушли с Запада. Но, если нет уже более народа, то ради чего теперь бороться? И это думал человек, оставивший собственных детей.
Поезд все шел и шел, и расстояние между Рихтером и его семьей все увеличивалось.
– Мы глобальная элита! – говорил сметанный Грищенко. – Ваше дело – снабжать нас оружием! И давайте быстрее и больше! Мы же умираем за вас!
– А за нас не надо умирать, – сказал Кристоф Гроб. – Я лично вас не просил. Вы, ребята, лучше не умирайте, а поживите-поработайте. Может быть, вы лучше за нищих африканцев поработаете? Или вон для этих, для нищебродов цыганских.
Цыган отдал ребенку весь хлеб, но хлеба не хватило. Попросить у своих европейских попутчиков цыган боялся, а ребенок тяжело плакал; Рихтер присмотрелся – это была девочка.
Глава 31. Цыганский ребенок
Поезд на три недели застрял в белорусской Орше, на границе с Россией; украинские боевики сошли раньше.
В Орше русские военные остановили состав, искали командира батальона «Азов».
– Вам именно командир «Азова» нужен?
– Здесь что, всякие командиры имеются?
Но не было уже в вагоне никакого командира.
Командир батальона «Харон», юркий Луций Жмур, покинул вагон на перегоне между Минском и Оршей. Жмур изучал белорусскую степь через оконное стекло, а когда высмотрел известное ему место, дернул стоп-кран, поезд затормозил, и украинский военный, а с ним и его спутники спрыгнули на снегом припорошенное жнивье. Сперва согнали в тамбур и вытолкали из вагона цыган. Цыгане цеплялись за поручни, не хотели выходить – в поезде тепло, а в степи ледяной ветер. Цыгане прижимали к себе детей и мешки, неуклюже отпихивались, но командир и комиссар неумолимо толкали корявых людей в спины. Люди, привыкшие, что их всегда куда-то гонят, противились, но слабо, поддавались напору, сыпались вниз, в снег, роняя мешки.
Европейские интеллектуалы заглядывали в тамбур, интересовались происходящим. Соня Куркулис, заботливая, спросила у рыжеволосой валькирии, для чего плохо одетых детей гнать на мороз.
– Пожалели? – резко спросила рыжеволосая Лилиана. Жилистая и цепкая, она как раз ухватила цыганку, перевязанную платком накрест; за цыганкой волоклись ее грязные дети. Мальчики держались за подол матери, семенили за ней к вагонным дверям, в руках цыганка сжимала свертки и пакеты – ни с чем не желала расстаться. Лилиана Близнюк развернула женщину лицом к снежной равнине: – Прыгай!
– Степь кругом, – сказала Соня. – Может быть, до станции доедете?
– Основания есть, – сказал командир Жмур. – А жалеть цыган не стоит. О них позаботятся, накормят.
– Спросите лучше у себя, – резко сказала Лилиана, – кого жалеете? Зачем сожгли наши дома на Херсонщине?
– Мы увозим цыган от погромов, – сказал Мельниченко, сказал медленно и веско, как всегда. – Спрятать их можем только у себя. Больше негде.
Соня не нашлась что ответить.
– Я домов не жег, – сказал Рихтер. Он вышел вместе с прочими пассажирами в тамбур.
– Смотрели, как другие жгут?
– Не смотрел, – сказал Рихтер. – Но стыжусь.
– В самом деле, Марк Кириллович, – сказала робкая Соня Куркулис, – нам всем должно быть стыдно перед украинцами.
– Ганьба! – крикнул комиссар в лимонных панталонах. – Ганьба!
По-украински это слово обозначает «позор», но наивная Соня Куркулис решила, что комиссар назвал некоего Ганьбу, повинного в преступлениях перед многострадальной Украиной.
– Но мы не знакомы с Ганьбой, – робко сказала Куркулис, а социалист Кристоф разразился каркающим смехом.
– Знаете, зачем цыгане нужны? – прокаркал Кристоф. – Когда эти вояки больницы и школы занимают, а на первых этажах женщин с детьми держат. Тут, наверное, поселок поблизости. И школа есть. Вот они цыган впереди себя поставят, будут из-за спин стрелять.
Вопиющее это предположение возмутило европейцев.
– Не обращайте внимания на этого человека, – сказал Бруно Пировалли. – Перед вами анархист в самом худшем понимании слова. Ни стыда ни совести.
– Уверен, вы позаботитесь об этих людях, – сказал мсье Рамбуйе украинским боевикам.
И Мельниченко подтвердил это кивком кудлатой головы.
– Мы можем им предложить только то, что имеем.
Рамбуйе глядел, щурясь, на искристый белый покров степи, вспоминал фильм «Доктор Живаго» и Омара Шарифа в главной роли. Все же умели снимать кино в семидесятые. И музыка к кинофильму превосходная.
Бруно Пировалли, знаток кинематографа, угадал его мысли.
– Нино Рота? Не так ли? Помните, снега… Метель. И вот эта сквозная тема…
– Они боятся, что на станции их встретят русские солдаты, – сказал Кристоф. – Поэтому сходят сейчас. Цыгане нужны как щит.
– Вы не имеете права так думать!
– Имею! – надрывался анархист.
Микола Мельниченко не удостоил Кристофа ответом, поглядел презрительно.
Управлять пестрой толпой было трудно. Цыган проталкивали по вагонному коридору: комиссар Грищенко и командир Жмур тянули людей за рукава, тащили за шиворот, выпихивали их в тамбур, а рыжеволосая валькирия последним толчком меж лопаток сталкивала людей в снег.
Толкнула в спину женщину, перевязанную платком, и та посыпалась со ступенек тамбура вниз, просыпалась, как порванный мешок картошки. Повалились из рук пакеты с какой-то пестрой дрянью, съехал на сторону бурый платок, старший мальчик упал в снег лицом, младший повалился на брата, сел на него верхом. Женщина, падая, стараясь удержать детей, спотыкаясь на железном полу тамбура, роняя тюки, успела сунуть один из пактов в руки Соне Куркулис и уже с земли крикнула на гортанном своем языке, а потом и по-русски, коверкая слова:
– Деточку не загубите, деточку побереги.
И Соня поняла, что пакет, который у нее в руках, – это завернутый в байковое больничное одеяло младенец.
– Немедленно отдайте ей ребенка, – распорядилась Лилиана. – У вас нет никакого права забирать ребенка. А ты стой! А ну-ка, быстро подошла сюда! Тебе сказано! – это уже крикнула вслед женщине, которая, подобрав полы, отбросив платок, бежала прочь от поезда. – Не сметь убегать! Для их же блага стараемся!
– В самом деле, – заметил разумный Бруно Пировалли, наблюдавший сцену с неодобрением, но и без явного осуждения, – лучше отдайте им ребенка. Вряд ли разумно оставлять чужого младенца. Что мы с ребенком делать будем?
– Насколько могу судить, – взвешивая слова, сказал английский галерист Балтимор, – повстанцы знают, куда именно сопровождают табор. Нет оснований сомневаться, что о несчастных позаботятся.
Цыганка продолжала бежать прочь от поезда, ее мальчики, сильно отставая, бежали следом за матерью, комиссар в лимонных панталонах спрыгнул в снег и погнался за ними; желтые ляжки комиссара крутились в морозном воздухе.
Соня Куркулис, никогда прежде не державшая в руках ребенка, тяготилась новой ролью: материнство в планы Сони не входило, а если бы такое событие когда-либо и приключилось, то уж, конечно, сыскалась бы на этот случай и няня. Сверток не тяжелый, но неудобный в обращении, причем с одной из сторон мокрый; Соня вертела сверток в руках, стараясь не уронить, но прижимать к себе мокрую упаковку не хотелось. Она собралась уже отдать сверток с младенцем рыжеволосой партизанке.
– Замерзнет ребенок, – сказал Марк Рихтер.
– Я возьму ее, – сказал Микола Мельниченко, – вы можете не беспокоиться о ребенке.
Но Рихтер взял из рук Сони Куркулис ребенка, завернутого в одеяло. Девочка – это была девочка – спала и дышала ровно. Привычный к обращению с детьми, Рихтер принял девочку на ладонь, другой рукой прикрыл от ветра, свистящего из двери вагона.
– Марк сочувствует детям, – пояснил военным людям Бруно Пировалли.
– Вы бы лучше Украине так сочувствовали! – горько сказала Лилиана Близнюк.
– Русня, – сказал Жмур. – Я имперца сразу чую.
– Тримай его, Луций! – гаркнул комиссар. – Тримай гада! – Комиссар вернулся к вагону, волоча за собой пойманную женщину. Мальчики плелись подле комиссара. – Вот она, паскудина. Бери своего пащенка. Ну-ка, все вместе двинулись!
– Времени нема, – сказал командир батальона «Харон». – Выдвигаемся.
К ним бежали проводники, требуя вернуться в вагон, поезд был готов к отправке.
– Неужели не сочувствуете Украине? – ахнула Соня Куркулис. – Простите нас! – Соня Куркулис закрыла порозовевшее от смятенных чувств лицо.
– Я тебя запомнил! – крикнул снизу, с белой равнины, комиссар Грищенко. – Мы всех запомним, не простим!
Женщина-воительница спрыгнула вниз.
За ней Мельниченко.
– Присмотри за девочкой, – сказал он Рихтеру.
– Присмотрю.
– Обещаешь? – Мельниченко смотрел пристально. – Надежда на тебя невеликая. Ты детей защищать не обучен.
– Обещаю.
Последним, как положено командиру подразделения, сошел с поезда Луций Жмур.
Поезд набрал скорость, скрылись из глаз и цыгане, и рыжие кудри валькирии, и лимонные рейтузы комиссара.
Глава 32. Споры попутчиков
На станции Орша в вагон вошли солдаты; сказали про эпидемию, забрали у европейцев паспорта: рекомендован двухнедельный карантин.
Состав отогнали на запасной путь, локомотив отцепили. Местные власти колебались: не разместить ли иностранных пассажиров по больницам – да откуда в Орше столько больниц взять? А может, и не интересовались местные власти этим вопросом – откуда подробности знать? Держали состав с европейскими гостями в Орше, вот и все. Решили: нехай в купе сидят, чтобы на улицу ни-ни! Паспорта обещали вернуть, но не возвращали долго, никто не заботился о заморских гостях. Медсестра ежедневно навещала вагон, приносила баночки и пробирки с детским питанием – после звонков в местные клиники наладились девочку кормить.
Женщины сразу устранились: Жанна Рамбуйе грациозно повела плечом; Соня Куркулис развела руками; монахиня пообещала в Москве связаться с миссией при костеле Святого Людовика, там, кажется, имеется приют. У нее опыта обращения с детьми нет – откуда у монахини дети? Равно и Алистер Балтимор, и Кристоф Гроб не сталкивались с проблемой ухода за младенцами: один был занят зарабатыванием денег, другой – классовой борьбой.
– Поможете? – спросил Рихтер у Бруно Пировалли. – Управимся вдвоем.
Многодетный итальянский отец охотно откликнулся.
– Плачет – и пусть. Поплачет – успокоится. У меня семеро. Семерых детей и на тещу, и на жену, и на всю родню хватает, – Гвидо рассмеялся злорадно. – Такая у Италии судьба, вечно страну делят, мы привыкли делить семью. Этого ребенка надо было разрезать на части – по завету Соломона. Разумно делить на три части: одну – украинским борцам, другую часть – силам НАТО (в данном случае это мы), а третью часть можно отдать цыганам.



