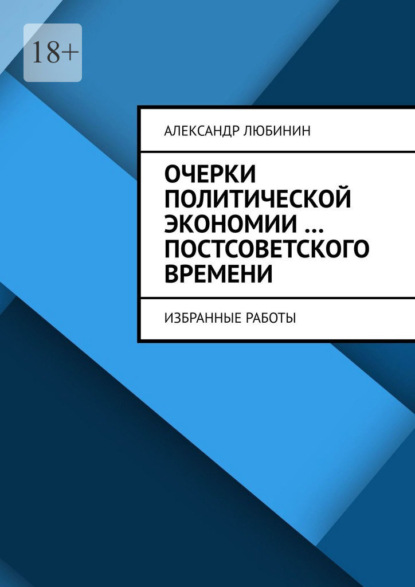
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
В пределах небольшого послереволюционного времени, отведенного Ленину судьбой, им был обоснован ряд ключевых для жизни страны переходов: к продналогу, от него к продразверстке и затем к нэпу. Кто знает, какие еще формы организации хозяйственной жизни страны, которая хотела быть социалистической не только по названию, Ленин, именно в силу своего понимания теоретических позиций Маркса, мог бы в последующем открыть для себя и предложить стране? Самые первые, неотложные меры перехода к социализму или подхода к нему, указанные Лениным, такие как общегосударственный контроль за производством и потреблением, регулирование потребления, национализация банков, синдикатов, образование единого государственного банка, объединение в союзы, наконец, государственный капитализм во всем многообразии его форм – это все явления которые «подсказаны» капитализмом, будучи в определенной мере им созданы, так что необходимым является их развитие и наполнение содержанием, требуемым для социалистических преобразований.
С окончанием Гражданской войны закончилась и безвозмездная крестьянская поддержка. На этой почве при невозможности дать крестьянам взамен хлеба нужные им товары промышленности начались волнения и мятежи, бунты трудовых армий – воинских частей, не распущенных после окончания боевых действий и направленных на хозяйственные работы. Отдавать кому-либо завоеванную власть и сдаваться большевики, естественно, не собирались. После октябрьского вооруженного восстания и кровопролитной Гражданской войны дороги назад для них не было. И не только для них, но и для поддержавших революцию широких слоев общества.
В. И. Ленин нашел выход из тяжелого кризиса в виде новой экономической политики, восстановившей отрытый товарооборот, как он полагал «всерьез и надолго». Для многих большевиков, пришедших с Гражданской войны, нэп казался тяжелым поражением революции, откатом ее назад, предательством партийных руководителей. Переход к нэпу заставил В. И. Ленин поставить вопрос о необходимости «признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм» [15, с. 376]. В перестроечное и постперестроечное время такого рода перемену стали напрямую связывать с тем, что практика строительства социализма привела теоретика и вождя революции к мысли о необходимости товарного производства при социализме. А значит, к фактическому признанию того, что Маркс ошибся в своем теоретическом предвидении, считая, что социалистическое общество, обеспечивающее равенство и свободное развитие каждого индивида, исключает в целях достижения этого товарное хозяйство, как неустранимый источник социально-экономического неравенства. Но нэп – это не социализм, и даже не его близкий пролог. Это ранняя переходная экономическая форма, которая, по мысли Ленина, как оружие, берется на время у капитализма для грядущей победы над ним, чтобы из нэпа, с его помощью вырастал бы социализм. Смысл нэпа был сформулирован В. Лениным в предельно ясной фразе: «Из России нэповской будет Россия социалистическая» [21, с. 309].
Поэтому объявленная В. И. Лениным в ходе нэпа перемена точки зрения на социализм совершенно не относилась к критике классической теории нового общества на основе практики его создания, которая потребовала реанимировать товарный оборот. Все дело заключалось в ясном осознании того, что быстро, путем лихой «кавалеристской атаки» к социализму не придешь. Новое общество должно строиться долго, настойчиво, терпеливо и, обязательно грамотно. Введение В. И. Лениным в теорию становления социализма исторического момента, естественно-эволюционного развития его форм, не только не закрывало вопрос об использовании товарно-денежных отношений в деле строительства социализма, а напротив, указывало на эти отношения как на важную необходимость, к использованию которой надо подходить осознанно.
Как показано выше, В. И. Ленин не находил у К. Маркса модели социализма: он действительно был марксистом и по своей мировоззренческой ориентации, и по духу. Чтобы мы сейчас знали, как будет выглядеть законченный социализм, писал он после революции, мы этого не знаем, нет еще для его характеристики материалов. Но после смерти В. И. Ленина, со второй четверти ХХ века, теоретическая мысль, за исключением некоторых научных направлений в философии и политической экономии, стала отводить учению К. Маркса о социализме противоестественную его мировоззрению честь быть пророком, а не ученым. Идейные последователи К. Маркса, так же, как и противники марксизма, каждый по своим причинам, утвердились в вульгаризирующей марксизм ошибке, полагая, что в трудах К. Маркса даны ответы на вопросы, которые рождались непрогнозируемым сплетением многочисленных экономических, политических и социальных обстоятельств в далеком от него будущем. Приняв это за непреложный факт, легко становится говорить о созданной К. Марксом модели социализма, об утопических, не подтвердившихся со временем чертах классического социализма, обнаруживать в нем недооценку возможностей капитализма, товарно-денежных отношений, «доктринальные» корни сталинизма. И, как следствие, связывать с именем К. Маркса и возлагать на него ответственность за чужие, конкретные уже модели и проекты, якобы родившиеся на основе моделей и проектов, подготовленных им самим.
Конечно, прав замечательный философ-марксист М. А. Лифшиц, пафос многих произведений которого состоит в том, что марксизм не отвечает за мысли и дела его негодных интерпретаторов [см.: 23, с. 34]. Однако, рассматривая эту проблему, приходится, как это ни парадоксально, признавать невольную причастность к ее появлению… самого К. Маркса. Высочайшая, уникальная научная культура его произведений, создала немалые трудности для их адекватного восприятия и широкий простор для невольных и сознательных вульгарных интерпретаций, для постановки знака равенства между действительным содержанием этих произведений и тем, что позднее стало называться марксизмом. Такое отождествление даже заставило Маркса однажды заявить: «Я знаю только, что сам я не марксист» [34, с. 324].
Чем значительнее научная теория, неважно из какой она области знаний, чем больше у нее сторонников, комментаторов и пропагандистов, старающихся «облегчить» ее понимание, с легкостью и без специальной подготовки берущихся популярно разъяснять любые трудные места, тем в большей опасности находится эта теория и, прежде всего, ее фундамент – методология: философские основания, историзм, объективные границы применения. Все это относится как к профессиональным в данной научной области людям, так и, тем более, к простым поклонникам общего смысла теории, способным незаметно для себя разрушать и дискредитировать то, что создано научным гением. Немало таких псевдомарксистских представлений в ХХ веке опорочило и замарало, в том числе и кроваво, идею социализма, нанеся ей тяжелый урон.
Для последователей К. Маркса ошибка в трактовке социализма приобрела фатальный характер. Она исказила теоретическое осмысление практики социализма и само понимание того, какой должна быть эта практика, сведя сложнейшее по своей внутренней организации явление общественного контроля за производством и потреблением, о котором говорил К. Маркс, лишь к быстро достижимой простоте: утверждению государственной собственности и введению директивного планирования.
Никто не оспаривает справедливость слов И. В. Сталина о суровой необходимости за 10 лет сделать экономический рывок, чтобы предохранить страну от неизбежного поражения в надвигающейся войне [см.: 50, с. 423]. Причем этот вопрос касался не только защиты социализма, но ровно в той же мере и сохранения исторической России, поскольку территории СССР и бывшей российской империи во многом совпадают. События показали, что сталинская оценка почти точно совпала со временем, отпущенным стране объективным ходом мировой истории. Получатся, что две с половиной советские предвоенные пятилетки спасли Россию, переведя ее экономику на современную во многом конкурентоспособную индустриальную основу.
До ХУ1 съезда ВКП (б) (1930 г.) в нашей стране в обстановке острой идейной борьбы выдвигались и обсуждались разные пути дальнейшего социально-экономического развития, подходы к созданию основ социалистического хозяйства, создавая возможность выбора из ряда альтернатив. При прочих равных условиях это, несомненно, стимулировало развитие теоретической мысли, повышало требования к уровню объективности и критичности научных выводов. После указанного съезда стал быстро утверждаться единый взгляд на основные экономические черты социализма в качестве единственно возможного, бесспорно правильного и безупречного. Процесс развития социально-экономических наук в этих условиях стал в значительной мере утрачивать свою интеллектуальную самостоятельность и творческую свободу24.
В посленэповский период своей истории СССР вернулся к доминированию непосредственно-общественных отношений, построению планово-директивной экономики, осуществил кооперирование сельского хозяйства и индустриализацию, став в итоге пятой державой мира. Все произошедшее в СССР с момента прекращения нэпа до периода послевоенного восстановления страны и смерти И. В. Сталина в 1953 г., как показывают события, результат реакции власти на объективные, прежде всего, внешние и внутренние экономические обстоятельства, в отношении которых, советский социализм был принципиально уязвим. Но в итоге страна сошла с траектории эволюционного развития через закономерные переходные формы, необходимость вернуться на которую она ощущала, но так и не смогла. Внятного плана этого разработано не было: не гарантированного плана выхода на данную траекторию, а хотя бы мыслимого.
За все достигнутое: успех Революции и победу в Гражданской войне, коллективизацию, индустриализацию, разгром фашизма, послевоенное восстановление народного хозяйства, гонку вооружений, вынужденное участие в холодной войне, т. е. за многие десятилетия сверх напряженного строительства сильной, ставшей второй в мире, экономики в условиях постоянного противостояния недружескому миру, приходилось всякий раз платить. Платить длительным мобилизационным периодом существования страны и жизни населения в режиме «победить или умереть» с неизбежными социально-экономическими особенностями государственного устройства, большими жертвами и серьезными бытовыми лишениями. И с зарубками, остающимися в исторической памяти.
Анализируя эти события с холодной беспристрастностью отдалившегося времени, можно было бы сказать, что заплаченная цена могла быть и меньше. Вокруг этого вопроса сложилась напряженная полемика в связи с тем, что под сомнение ставится целый ряд узловых фактов истории СССР. Но, во-первых, далеко не все здесь зависело от Советской власти. Огромное значение имел фактор времени сила сопротивления социалистическому переустройству, напор врага, угрожающий существованию исторической России, международная обстановка.
Революций и войн на полное уничтожение противника не бывает без страсти. А это особое состояние чувств и действий. Поэтому, когда вопрос возникал в той исключительной остроте, в какой он едва ли не всякий раз возникал в критический момент: победить, защищая Отечество, или умереть вместе с ним, в этом судьбоносном случае включался другой, высший, моральный принцип: «за ценой не постоим». Это потом, после победы нужен военно-исторический разбор «полетов» и документальный анализ обоснованности потерь. Но результат этого анализа, как бы ни был горек его конечный итог, не может служить доказательством необходимости прекращения борьбы, если она потребовала жертв больше кем-то определенной величины. Героическая оборона блокадного Ленинграда ближайший, осмысливаемый до сих пор, пример такого рода нашей истории. На личном уровне подобным образом ставил вопрос и В. Путин. «Я решил для себя, сказал он в 2007 году, – что готов для восстановления своей страны на все, на любые жертвы, то есть я для себя определил это как главный смысл всей моей жизни».
Но, ни в коей мере не оправдывая эксцессы, которые принес мобилизационный период жизни страны, нельзя, однако не видеть, как сильно сжатое суровыми геополитическими обстоятельствами время, отведенное стране на экономический подъем, объективно давило на всю ситуацию, дополнительно ускоряя введение колхозного строя, провоцируя всякого рода «перегибы», в том числе неоправданный произвол и насилие. Коллективизация ведь не была отдельной, изолированной мерой. Она была системной мерой, необходимой предпосылкой, подготовительной ступенью к будущей и уже намеченной индустриализации, ее трудовым, материальным и финансовым ресурсом.
Исчерпание возможностей мобилизационного уклада. Критическое накопление негативного социального потенциала
Оценивая путь, пройденный СССР, существенно важно принять во внимание общественные последствия, которые вызвал к жизни мобилизационный уклад. Именно в пределах его и в связи с ним сформировались такие ключевые политико-экономические черты, как особый характер государственной и партийной власти, характерный способ формирования органов власти, в частности всеобщие, ступенчатые и безальтернативные выборы, ведущая роль СССР в геополитике, разрушении колониальных порядков, система централизованного планового руководства, избыточный военно-промышленный комплекс, отраслевой принцип управления народным хозяйством. Сложился менталитет советского человека. Возник особый идеологический, политический, экономический и социально-культурный облик советского социализма, его восприятие в мире. Именно этот конкретный и, неизбежно специфический облик, получил теоретическое выражение в общественных науках в виде научного социализма. В силу своей практической успешности и мировой единственности он был канонизирован советским обществоведением в качестве реального классического марксистского образца, подлежащего распространению. Фактически, однако, он лишь аккумулировал исключительно особый и неповторимый опыт строительства социализма в СССР, протекавший в своеобразных условиях бывшей российской империи. Конечно, это суживало, деформировало и загоняла в тупик реальное теоретическое пространство социалистической мысли, а с этим и ее прикладные возможности.
Как это ни парадоксально, но, именно благодаря мобилизационному укладу и завоеванной посредством его абсолютной суверенности существования СССР (атомный паритет с США), время социально-экономической мобилизации общества в качестве вынужденного способа выживания советской власти стало утрачивать свой прогрессивный смысл, пусть даже это был прогресс в ограниченно демократической форме. Вместе с этим позитивный потенциал мобилизационной идеи, ярко проявившей себя на российской почве, начал иссякать. Стал нужен переход к новому укладу, ориентированному не на экстенсивный, а на интенсивный экономический рост с отказом от искажающего цель социализма приоритета производства средств производства при определении плановых показателей развития в пользу производства потребительских товаров и увеличения их импорта по ряду важных товарных групп. Тем не менее, в отвоеванном потом и кровью праве на мирную и спокойную жизнь, в бесклассовом обществе продолжали действовать в политическом устройстве и в экономической жизни, пусть и в смягченном виде, основные приемы мобилизационного уклада, сохранившиеся из времени, альтернативой которого было «победить или умереть». Людям, однако, оправданно хотелось более свободной и обеспеченной жизни.
Со второй половины 50-х гг. темпы экономического роста СССР стали затухать. А в последнее десятилетие своего существования советская экономика отставала от своих главных конкурентов – США и других индустриальных стран уже не только по абсолютному уровню и доле национального дохода, идущего на личное потребление, но и по общим темпам роста экономики, что до этого периода выступало как зримое преимущество советской плановой системы. Фактически опять встал судьбоносный вопрос о выживаемости социализма. Только теперь это была плата не за противодействие внешней угрозе, а за нарушение исторической «очереди» – естественной и необходимой последовательности форм экономического развития, которая была нарушена мобилизационным режимом жизни страны. Настоятельно стали нужны преобразования, которые в своей общей направленности устранили бы принудительный, вызванный мобилизационным укладом, перекос в соотношении производительных сил и производственных отношений, тормозящий экономическое и социальное развитие.
Само по себе осознание этого императива произошло не на рубеже 1950-1960-х годов, как многие считают, а десятью годами раньше. По некоторым сведениям, 1951 году И. В. Сталин пригласил к себе Д. Т. Шепилова и в ходе беседы высказал то, над чем сам давно уже размышлял: «Мы думаем сейчас проводить очень крупные экономические мероприятия. Перестраивать экономику на действительно научной основе. Положение сейчас таково… либо мы подготовим кадры наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо погибнем! Так поставлен вопрос историей» [См.: 47, с. 56]. Нет, конечно, оснований утверждать, что автор приведенного выше пассажа имел в виду перевод экономической теории социализма (и самого ее предмета) на траекторию, обозначенную классическим социализмом: набранная инерция движения по другой, охарактеризованной выше, траектории, была труднообратима. Но впечатляет драматичность постановки вопроса: с такой чрезвычайностью формулировалось лишь значение индустриализации. Значит, «допекло»! Осознание отмеченной острой необходимости вкупе с проявлением мощной политической воли, конечно, могло бы дать результат. Однако ничего существенного из того, что требовала практика и что в той или иной мере сознавалось теорией, к глубокому сожалению, не последовало ни при жизни Сталина, ни впоследствии, в том числе в ходе косыгинских реформ. Сложившаяся, и во многом адекватная чрезвычайным обстоятельствам времени своего возникновения, но неверная для периода, когда эти обстоятельства ушли в историю, теория стояла на пути перемен несокрушимой стеной.
В теории и на практике требовался сложный маневр – своеобразное отступление в будущее – от последовательно централизованной плановой экономики к планово-рыночной (определения могут быть и другие). И при этом не скатиться в рыночной социализм. Конкретные формы должны были бы, прежде всего, вырастать из опыта, базироваться на нем. В любом случае это должна быть смешанная, многоукладная экономика, сохраняющая социалистические цели и принципы развития: стратегический контур общенародной собственности, базовое распределение доходов государства в пользу всех и каждого, дополнительное распределение по критерию рентабельности. При этом должно сохраняться сильное политическое влияние идейно здоровой, преданной принципам социализма компартии, способной обеспечить движение к социалистическим целям в направлении социальной справедливости и равенства. В условиях отсутствия такого влияния перерождение советского социализма в капитализм стало только вопросом времени.
С неизбежностью «забегая» вперед при осуществлении негативного отрицания капитализма, необходим затем разумный «отход» назад, но не в качестве признания совершенной ошибки, а для, чтобы, как разъяснял В. Ленин, старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы. Но, как же, до невозможности, психологически труден после всех достижений и жертв предшествующего драматического, но победного этапа, этот шаг назад. В отсутствие соответствующей теории он становится вообще не реален, что и подтвердил опыт СССР. В 80-х гг. конкурирующими стали два варианта: либо новая попытка реформировать существующую экономическую систему с сохранением ее родовых свойств, бесполезность чего показали послевоенные годы, либо, как бы это словесно не камуфлировалось, фактический отказ от марксистского социализма. Вариант, снижающий планку признания нашего общества как уже реально социалистического и включающий переходные формы для достижения такого состояния, отсутствовал. А именно в нем был исторический шанс для СССР.
Строительство социализма в отдельной стране и первоначальная экономическая слабость, которую пришлось преодолевать стремительным рывком, привели СССР к построению мобилизационной системы общественных отношений, а экономическое соревнование двух разных миров в купе с потребительскими склонностями на фоне буржуазного изобилия к потере авторитета плановой системой. Кризис мобилизационного уклада сделал ключевым вопросом социально-экономической повестки дня соотношение централизма и самостоятельности предприятий в управлении народным хозяйством, директивного плана и рынка. Уже начиная с 1950-х гг., в стране стал обсуждаться тезис о децентрализации системы управления. При этом большинство научных работников и практиков полагали необходимым всемерное развитие самостоятельности отдельных предприятий. С середины 60-х гг. акцент в этой теме был перенесен на вопрос о природе, месте и роли товарно-денежных отношениях в социалистическом обществе. Отсутствие рыночного саморегулирования стало рассматриваться, как главная причина падения эффективности советской экономики, и социальной неудовлетворенности населения существующим положением: скудностью предлагаемых потребительских благ и их низкой доступностью, особенно по товарам длительного пользования. Практика централизованного планирования стала дискредитироваться не лишенными оснований обвинениями в том, что она породила «экономику дефицита и очередей». Скорейший переход к рынку представлялся в качестве неизбежного и спасительного блага. Пропаганда товарно-денежных отношений сделалась модой. Выбор, который предлагали теоретики, был между рыночным социализмом путем полного хозрасчета (и неизбежной утратой социалистических начал в процессе естественной эволюции) и совершенствованием планомерности на базе ведущихся разработок, дополненных традиционным хозрасчетом.
Бесконечные разговоры о благотворной роли товарно-денежных отношений привели к нарушению логики реформы. Она началась «снизу» – с разрешения мелкой частной и коллективной частной собственности, т.е. без подготовки необходимых условий функционирования частной собственности в одной системе с государственной собственностью. В связи с этим, прежде всего, движение реформы должно было идти «сверху»: – госсобственность, прежде всего, следовало ранжировать по степени рыночности и возможности применения планового управления от директивного уровня до индикативного. Должен был быть воссоздан оптовый рынок ресурсов со своими особыми ценами, ориентированными на рынок, система кредитования и налоговая системы, обеспечивающие пополнение государственного бюджета и покрытие бюджетных расходов, контроль наличного денежного обращения и т. п. Без этого получилось то, что и должно было получиться, – частные предприятия покупали у государственных предприятий, получивших расширенные права, ресурсы (других возможностей не было) по государственным плановым, низким, ценам. А продавали свои услуги и товары по монопольным ценам псевдорынка. Итогом стало фактически сознательное восстановление в 1987—1988 гг. теневого сектора, существующего за счет государственной собственности, разбалансированность денежного обращения, возникновение капиталов для первоначального накопления и приватизации. Не будет преувеличением признать, что самыми разрушительными и вредными для страны стали «Закон о государственном предприятии» (1987 г.) и «О кооперации в СССР» (1988 г.).
Таковы, если коротко, были общие, объективно заданные, теоретические координаты для назревшей экономической реформы, которая своими положительными результатами могла бы улучшить материальное положение советских людей, а с этим начавшие скисать общественные настроения. Но власть испугалась сложившейся не идеальности социалистического идеала. Остановившись в экономическом его продвижении, она оказалась в тупике. Имеющие идеологические приемы начинали восприниматься населением как ложные. Уже к середине 1970-х гг. КПСС превратилась из единой «направляющей и руководящей силы» в рыхлую, целиком зависимую от партаппарата структуру. Партия как творческая сила строительства социализма начала умирать. Происходил фактический разгром КПСС под руководством КПСС. В конце концов, это привело к отмене 6-й статьи Конституции СССР и далее к поражению коммунистического проекта в стране и в мире. Внутриполитические факторы стали сказываться все более деструктивно, возникла идейная слабость и вялость власти, которую с приходом Ю. Андропова пытались усилить дисциплинарно воспитательными и административными методами.
Концепция советского социализма – возможность его осуществления в отдельно взятой стране, содержала в себе капитальное и опасное противоречие, разрешить которое СССР оказался не в состоянии. Решая задачу надежного обеспечения независимости страны, Советский Союз не смог сделать конкурентноспособным свой общественно-политический строй в условиях жесткой военной, экономической и идеологической конкуренции двух мировых систем. Это противоречие в полной мере созрело к середине 70-х годов, став через небольшое время причиной его гибели. То, что необходимо было делать в условиях существующего в России хозяйственного уклада и сжатых границах отпущенного исторического времени для обеспечения суверенитета страны, методы, которыми это могло быть достигнуто, по своей сути не могли быть вполне социалистическими, ибо требовали активного принуждения населения, его особой полувоенной организации, пусть и сознательной, массовой, вдохновенной, но жертвенности. Это не могло быть устойчивой практикой социализма, как это допускала его сталинская трактовка. Социализм, который еще предстояло достроить, по определению не должен лишать людей ни свободы выбора, ни возможности самовыражения, если претензии на это не носят асоциального характера и не задевают общественную нравственность. Командовать в этой сфере, значит, опускать планку самореализации индивида ниже того уровня, которого она достигает при капитализме. Все это должно было быть сохранено и переведено в реальную плоскость в системе так или иначе планового производства и распределения. Но советское плановое хозяйство постоянно вызывало погашение личностного самовыражения. В итоге при Н. Хрущеве начали угасать искренние проявления советского патриотизма, люди начали терять жизненные ориентиры. Застой стал образовываться, прежде всего, не в экономике и уровне жизни, а в идейно-моральном климате общества. Все это происходило при активной помощи науки, вставшей на путь идеализации сложившегося в СССР социализма. В конце 80-х гг. вполне проявившими себя результатами указанного противоречия воспользовались противники всего советского, в союзе с противниками России.



