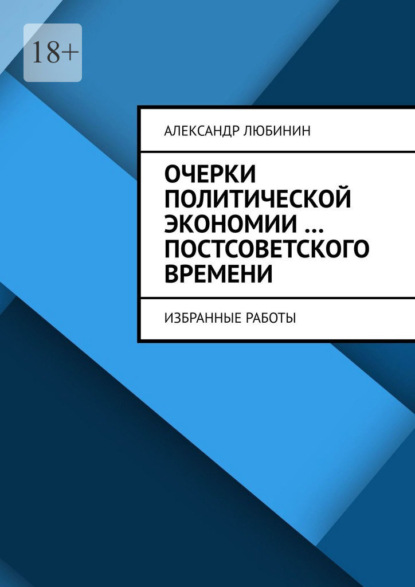
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
Понимая это, предположим, что Февральская революция не увенчалась бы свержением монархии, а Октябрьское вооруженное восстание вообще не состоялось или было бы подавлено. В этом случае в стране, скорее всего, установилась бы буржуазная республика, возможно, в соответствии с той, парламентской в своей основе моделью, которая в 1915 г. предлагалась Государственной думой, но была, в конце концов, отвергнута Николаем Вторым. В этом пункте тоже есть подлежащая теоретическому рассмотрению развилка сослагательного характера. Ведь царь мог и согласиться на конституционную монархию, уменьшив в значительной мере нарастание антидинастических настроений и давление на него укрепляющихся оппозиционных политических сил, считающих, что монархия себя уже полностью изжила, и потому готовых использовать в своей борьбе все доступные средства, включая заговоры и раздуваемый феномен влияния Распутина на поведение царицы и решения царя. Но была бы при любом из указанных вариантов достигнута консолидация общества, испытывающего в тот момент еще и тяжелое воздействие участия страны в Первой мировой войне? Ведь принципиальные различия в подходе самодержавия и думцев к земельному вопросу хотя и существовали (взять хотя бы программу эсеров), но обе стороны не считали его решение экстренно необходимым, сверхнасущным и сверхнеотложным, а значит, за пределами политического умиротворения находился бы самый многочисленный класс России – крестьянство, который нес, к тому же, основную тяжесть участия страны в войне, не понимая и не обнаруживая ее связи со своими давно требующими учета интересами. Победа России в войне ничего крестьянам не обещала и никаких послаблений не гарантировала, подвигая к насильственному переделу земельной собственности, который стал происходить уже и практически. Непонимание этого было обстоятельством, обрекающим на поражение, как самодержавие, так и его буржуазных и около социалистических критиков.
Снять остроту этой проблемы можно было бы только серьезными и понятными крестьянству шагами, которые бы оно восприняло как, в той или иной мере, достаточные и удовлетворяющие его. Но даже в политически острейший момент, когда цена земельного вопроса поднялась до уровня критерия легитимности власти, Учредительное собрание не спешило заняться его решением. План рассмотрения аграрной реформы отсутствовал и, стало быть, в лучшем случае, отодвигался на будущее, в то время как градус крестьянского недовольства уже зашкаливал и, как было отмечено выше, самозахват земли, ее «черный передел», реально уже шел. Вот по этой линии глубочайшего политического разлома в российском обществе Октябрь – прямое следствие февраля, итог нерешенности назревших вопросов, прежде всего аграрного, и производных от него – социально-экономического разрыва города и деревни, несоответствия между нарастающими потребностями индустриального развития и обеспеченности этого развития трудовыми ресурсами. Чтобы понять, почему дорогу именно к социализму выбрала измученная страна, нужно понять, что по большей части внутри нее заставляло и определяло выбирать именно эту дорогу.
В данном отношении принципиально значимо то, что совершенно надоевший всем слоям российского общества, измучивший и обозливший крестьянство, породивший массовые, пользующиеся широкой поддержкой интеллигенции радикальные антиправительственные политические течения земельный вопрос, решительно и без промедления был снят с политической повестки жизни страны именно революционными актами новой власти, за которые прежняя власть отказывалась голосовать. Эти действия, отвечавшие сокровенным чаяниям подавляющей части народа, привлекли в ряды Красной Армии миллионы крестьян что, в итоге, обеспечило военный перевес большевиков в Гражданской войне.
Отвечало ли это задачам развития российской государственности? В полной мере. Именно «большевики смогли собрать в горниле кровавой Гражданской войны растерзанную историческую Россию и предложить ей „советский проект“, истинный смысл, величие и предназначение которого многим непонятны до сих пор. А ведь видный русский философ Александр Зиновьев был абсолютно прав, когда сказал, что „советский проект“, воплощенный в СССР, был вершиной российской цивилизации». В этом состоит исторический факт, с которым не поспоришь. Впрочем, желающие, конечно, найдутся. Октябрьская революция и СССР породили немало недоброжелателей. Возникшее государство нового типа взяло на себя миссию спасения исторической России. Значительная часть царских генералов, включая знаменитого Брусилова и двух бывших министров обороны империи перешли к большевикам, они понимали, что только большевики способны восстановить Россию в ее исторических границах и в присущей ей политической значимости. Постсоветская власть, напротив, для своего утверждения инициировала распад российской державы, с легкостью расставшись даже с ее исконными славянскими территориями (Украиной и Белоруссией) с генетически идентичным (кроме жителей Галиции) населением.
Критики Октябрьской революции полагают, что причины крушения советского социализма были предопределены тем, какой по своему смыслу была эта революция и тем, в руках какой политической силы и ее конкретных субъектов оказалась государственная власть. В победе большевистской революции они видят изначально «порочное зачатие», которое генетически предопределило неизбежное возникновение государственного тоталитарного режима, а в силу этого преопределенную пагубность революции и отсутствие у нее жизненной перспективы. Тем самым всякая практическая попытка начать движение к действительно справедливому, а значит, бесклассовому обществу (другой формы последовательной социальной справедливости просто не существует) изначально трактуется как вредная для государства и общества, губительная для них. Не сложно увидеть в таком подходе апологию капитализма, признание его вечным и обеспечивающим предельно достижимую в человеческом обществе справедливость. В рамках таких суждений каждый, кто думает иначе и готов это теоретически отстаивать, уже не ученый, а социальный недоумок.
Разделение общественного мнения на сталинистов и антисталинистов, предполагает фиксированный выбор: И. В. Сталин либо икона, либо кровавый тиран, иного не дано. Но ведь есть еще и реалисты, которые считают необходимым исходить из полноты всей картины жизни страны и пройденного ею пути. Они нисколько не менее гуманны и нравственны, чем антисталинисты, решительно осуждают И. В. Сталина за массовые репрессии против не виновных, тех, кто просто попадал под горячую руку, оказался не в том месте и не в то время. Жить в эпоху больших перемен всегда трудно и порой опасно. Но, реалисты, причем вовсе не в силу идеологической зашоренности, а по объективным основаниям, видят в И. В. Сталине то, что не видеть нельзя, как бы этого не хотелось, – крупнейшего государственного деятеля, обеспечившего сохранение исторической России, и ее превращение в великую мировую державу. В этом «тайна» сохраняющейся популярности Сталина в общественном мнении при всех его опросах
Правила, отражающие установочные законы общественного развития, не пишутся для каждого особого случая. Это бессмысленно, поскольку заранее неизвестно, когда, где и какой случай может случиться. Научно обоснованные правила пишутся для общего случая, уже наметившегося, массового, с четко обозначившимися объективно действующими социально-экономическими тенденциями будущего в существующем настоящем. Марксистская теория социальной революции была такого рода общим, и в силу этого классическим, правилом, отразившим именно западноевропейскую действительность 19 века. Именно это знание существует в качестве ортодоксальной части учения Маркса. Из этой же конкретной действительности вытекали совсем не многочисленные, хотя и ключевого свойства, положения Маркса и Энгельса относительно устройства жизни в социалистическом обществе. Сколь-нибудь развернутых решений по этому вопросу найти у классиков социализма нельзя, о чем они открыто поставили в известность своих сторонников, полагая, что те, кому доведется строить реальный социализм, окажутся не глупее их в качестве основателей революционной теории. Зная об этом, Ленин, начав управлять Россией, «завоеванной у богатых для бедных», отмечал, что «нам надо выкарабкиваться самим» [20, с. 228].
Но революция предложила российскому обществу и всему миру как раз альтернативный антикапиталистический социальный проект, общий смысл которого (но не более того) был научно обоснован и предложен марксизмом. В этом проекте не было ничего, что с абсолютной неизбежностью предопределяло бы возникновение долгой и масштабной гражданской войны в России, быстрое поражение начавшихся европейских революций.
Большевики призвали к социалистической революции в России, где сельское население составляло 80%, и страна страдала от недоразвитости, слабости, капитализма. В такой стране, согласно общепризнанному в марксистской среде пониманию, победоносная социалистическая революция объективно не обоснована, стране требуется прежде пройти через буржуазно-демократический этап, сказать своего рода «прощальное спасибо» зрелому капитализму перед расставанием с ним. В данном пункте ввиду провозглашенного социалистического характера российской революции возникло первое в советской истории (дальше будут и другие) столкновение ортодоксального марксизма с тем, что можно было бы назвать ортодоксальным большевизмом – острое расхождение известных правил марксистской теории в отношении социальной революции с теми условиями, в которых эта революция протекала в России – разделение большевиков на сторонников духа и буквы марксизма. Дело в том, что для России в существовании большой массы крестьянского населения был не только минус, исключающий пролетарскую революцию, как совершенно преждевременную, но и уникальный политико-экономический плюс, – исключительно российский шанс в виде сельской общины. Как это ни парадоксально для почитателей книжного марксизма, на него указал никто иной как сам Маркс, начав заниматься российской общинным строем. Это был марксизм, но уже не догматический, а творческий, вырастающий из методологии марксизма, всегда находящейся в соединении с жизнью. Из-за неожиданности вывода это выглядело как столкновение западноевропейской, по своему происхождению, буквы марксизма, с его революционным духом, проявившимся на российской почве. Оценивая влияние этого события на развитие представлений о социализме, нужно констатировать, что вся дальнейшая теория и практика строительства социализма представляла собой обратный процесс – превращения, творчески истолкованного на стадии революции духа марксизма в его ортодоксальную букву, закрепленную в советской философии и политэкономии. Происходило это не случайно, к такому положению подталкивали обстоятельства, в которых оказалась страна победившей социалистической революции в России. Именно этот непредвиденный и новаторский с точки зрения марксизма вариант повлек за собой объективно вынужденные политико-экономические формы и административные меры становления социализма в СССР и высокозатратные усилия по его военно-политической защите. Весь дальнейший путь советского социализма с конца 50-х гг. осуществлялся и на практике, и в общественной науке по инерции, созданной предшествующим героическим, жертвенным и победным путем. Все попытки выскочить из наезженной колеи теории и практики сталинского времени результатов не дали.
При желании не сложно обнаружить отсутствие логической связи идей Октябрьской революции с событиями, возникшими после нее, и во многом сформировавшими всю последующую конкретную ситуацию: скачкообразный рост германского милитаризма, сверхсрочную необходимость индустриального подъема СССР, разрушительнейшую Отечественную войну, как составную часть мировой, а затем и холодную войну, ставшую тяжелым бременем для экономики и обустройства социальной жизни. Если убрать эти события, то не остается никаких оснований для логической увязки смысла революции и социально-политического устройства СССР: революция никоим образом именно этого не предполагала. Как не предполагала она ничего заранее положенного в его конкретности: актуальные социально-экономические формы предстояло найти, открыть, постоянно подвергая их критическому осмыслению, при этом, не теряя из виду траекторию общественного движения к справедливому обществу, в чем, как было показано выше, состоял подход Ленина к строительству социализма. Через сто лет после Октябрьской революции ситуация, конечно, уже другая. Появился бесценный практический опыт – «действительно сын ошибок трудных».
Борьба за выживание: возникновение мобилизационного социально-экономического уклада как способа утверждения социализма с российской спецификой
Совершенно определенно концепция построения социализма в одной, отдельно взятой стране не была исходным намерением большевиков. Вопросы роли крестьянства и невысокого уровня развития капитализма как обременения социалистической революции и последующего строительства нового мира широко дискутировались. Но вариант длительного существования какой-либо одной страны, реально сориентированной своим социально-экономическим курсом на социализм, в окружении недружественных стран с иным политическим строем, классическим марксизмом не рассматривался вообще, поскольку был лишен какой-либо политической реальности. Это просто не соответствовало базовым марксистским представлениям, которые были для большевиков путеводной звездой. Тем более, если вести речь о странах слабо и среднеразвитого капитализма с преимущественно сельским населением. Какое-то время новая власть возлагала свои надежды на грядущую поддержку европейских революций, и в 1920 г. даже втянулась в войну с Польшей, рассчитывая на солидарную поддержку рабочего класса всей Европы. Однако вместо разбуженности широких слоев пролетариата бедствиями Первой Мировой войны с обращением праведного гнева против ее виновников – правящей буржуазии своих стран, доминирующим стало настроение усталости, нежелания новых потрясений, тем более предполагающих изменение коренных устоев жизни. Вместо революционной радикализации общественных настроений, напротив, после окончания Первой мировой войны началась консолидация национальных политических сил, затронувшая и социал-демократов. Можно сказать, что мир вступил в эпоху, когда национальное единство одержало верх над классовым сознанием и солидарностью.
Возникшая ситуация вызвала раскол в большевистской партии на государственников и интернационалистов. Государственники, среди которых со второй половины 20-х гг. политический вес начал набирать И. В. Сталин, а альтернативные, интернационалистские, взгляды активно продвигал Л. Д. Троцкий считали, что в сложившихся исторических обстоятельствах усталости пролетариата от Первой мировой войны и, связанного с этим спада его революционной активности, планетарная победа социализма откладывается на неопределенный срок. В силу этого, как полагали государственники, не было оснований рассматривать Октябрьскую революцию как сформировавшееся ядро начавшегося непрерывного процесса развертывания мировой социалистической революции. Неравномерность социально-экономического развития капитализма, аргументировали они, предполагает не только подъемы, но и спады в революционной активности масс, что не позволяет характеризовать эту активность как протекающую непрерывно, по терминологии Л. Троцкого, перманентно [См.: 53, с. 54, 260]. Сосредотачиваться нужно на строительстве социализма в одной, отдельно взятой, стране, а не тратить все силы на борьбу за «мировую республику» при отсутствии ближайшей перспективы. Можно сказать, что интернационалисты были радикальными идеалистами от марксизма, а государственники отчаянными практиками, начавшими строительство социализма, не считаясь с состоянием народного хозяйства и враждебным окружением. И те, и другие свято верили в идеи революции. Но разделяла их борьба за стратегический выбор модели организации послереволюционной жизни и понимание насущных практических задач переживаемого момента.
После успешной Октябрьской революции и победы в Гражданской войне, переступить через себя, через то, что за годы подполья, арестов и непрерывной борьбы стало их жизненным кредо, интернационалисты не могли. Строить социализм в одной, отдельно взятой стране, казалось им изменой марксизму, отказом от идеалов Октябрьской революции, ее контрреволюционным перерождением. Сосредоточиться на строительстве системы партийно-государственного и хозяйственного управления страной сторонники Л. Троцкого считали заведомо бюрократической и антидемократической процедурой, порождающей капиталистическое отчуждение работника от средств производства и ограничение личной свободы. Ввиду этого столкновение интернационалистов и государственников приобрело непримиримый характер, и стало, как сейчас считает большинство исследователей периода раннего СССР, внутренним стержнем раскручивания репрессий 1936—1939 гг., настоящей драмой «самоуничтожения17. Начавшись, как партийная чистка от противников строительства социализма в одной отдельно взятой стране, эти репрессии вышли за пределы столкновения интернационалистов и государственников, приняли широкий характер, исковеркав судьбы многих людей. Данное столкновение не имело бы под собой реальной почвы, если бы переход к социализму в России, несмотря на все ее масштабные недостатки цивилизационного плана, складывался в соответствии с теорией классического марксизма, внутри общего движения развитых капиталистических стран к новому обществу. Для разделения на интернационалистов и государственников в этом случае не было бы практической почвы. По данному основанию не было бы репрессий, которые оставили тяжелый, незабываемый след в истории советского социализма, сыграли разрушительную роль в годы перестройки и продолжают раскалывать общество в постсоветский период.
Внутри России политическую победу по вопросу строительства социализма в отдельно взятой стране, т. е. по вопросу можно ли оставаться марксистом, решительно отступая от буквы марксизма, одержали большевики. С этого момента начинается история становления советского варианта социализма, ставшего с конца 20-х гг., оправданно будет сказать, сталинским. Именно советского в силу его неизбежных специфических особенностей и, соответственно, принципиальных отличий от классических марксистских представлений, сформированных западноевропейским театром истории: страна крестьянская, индустрия слабая, внешнее окружение враждебное. Вопрос в том, как эти объективные и критичные для судьбы нарождающегося социализма особенности отражались на мерах экономической и социальной политики, жизненных самоощущениях людей, на их отношении к партии, государству, власти?
С началом Гражданской войны выбора у большевиков в том, как управлять Россией, отвоеванной, по В. Ленину, повторим это, «у богатых для бедных» уже не было. Система мер под названием «военного коммунизма» была единственно возможной для того, чтобы поддерживать жизнь населения городов и обеспечивать воюющую армию продовольствием. Эта «красногвардейская атака на капитал» не была исключительным порождением именно большевиков. Она включала в себя меры, предпринятые правительствами многих воюющих стран, в том числе царским правительством в условиях Первой мировой войны. Среди этих экстремальных мер были продразверстка и распределение основной массы продовольствия в нетоварной форме, по карточкам. В 1921 г. продразверстка была отменена, и ее место занял продналог. Большевикам, однако, виделось в этом и социалистическое содержание – непосредственно-общественные, внерыночные формы экономических отношений, которые являются классической марксистской характеристикой социализма наряду с общественной собственностью. В силу этого на какой-то момент показалось, что социалистические отношения могут быть быстро введены велениями Советской власти, и значит, переход от капитализма к социализму надолго не затянется.
Коррективы в это понимание внес нэп. Учитывая реальный контекст того времени, Л. Никифоров, думается, не прав, полагая, что субъективные действия большевиков (любая власть проявляет себя субъектно) были свободны от обязывающих объективных ограничений. Размашисто, на наш взгляд, выдвигая политические доводы против действий большевистской власти, он утверждает, что «новое общественное устройство в прямом смысле создавалось по велениям и решениям партии и государства, точнее преобладавших в них политических и идеологических сил». Но в чем Н. Никифоров, несомненно, прав, так это в том, что властные «… силы отождествляли собственные представления о социализме и путях его развития с закономерным, единственно верным вариантом его становления» [60, с. 7], соответствующим марксистской теории.
Получилось так, что Россия, вооружившись европейской теорией социализма, но перетолковав ее на свой, отвечающий сложившейся ситуации лад, начала создавать у себя новый тип государства. Социализм предложил перспективу построения справедливого, социально-равноправного общества. В этом была его вдохновляющая массовые низы и немалую часть интеллигенции сила. Но была и слабость – новое общество только предстояло построить, на практике оправдать надежды и доверие. А это, как показало дальнейшее развитие событий, оказалось сложнее, чем завоевать власть.
К сказанному надо добавить, что для большевиков сложились исключительные возможности формирования системы государственной власти. Изнурительная Гражданская война, выросшая из первоначально почти бескровного октябрьского революционного переворота, закончилась не перемирием враждующих сторон, не их взаимным согласием относительно устройства и разделения власти в послевоенный период, а полной и безоговорочной победой большевиков на подконтрольном географическом пространстве. Таким образом, монополия на власть была не узурпирована большевистской партией в результате политических интриг или выборных технологий, а обеспечена победой в открытой войне при отсутствии системных союзников от других организованных политических сил (временные, ситуационные союзники на конечный результат не влияли). Это придало легитимность существования возникшей сразу однопартийной системы, возможность полного влияния партии большевиков на социально-экономическую и политическую жизнь страны, что впоследствии было конституционно зафиксировано в качестве руководящей роли компартии. Вместе с возможностью быстро готовить и принимать решения, обеспечивать за счет строгой партийной дисциплины и жесткой персональной ответственности их безусловное исполнение, пришла вполне себя проявившая с первых дней опасность навязывания стране должностной партийно-государственной верхушкой особой точки зрения на развивающиеся в стране процессы и требуемые социально-экономические изменения, то, что в последствии было справедливо названо субъективизмом и волюнтаризмом, приводящим к различного рода социально-политическим, экономическим и административным перекосам, а в итоге к эрозии социалистического идеала и неверию в его достижимость.
Из опыта и результатов Гражданской войны выросла вся централизованная модель политической власти и хозяйственного управления страной, с руководящей ролью партии большевиков. Эта модель, по сути, осталась неизменной вплоть до крушения советского социализма. В рамках этой модели КПСС стала больше, чем политическая партия, функционально важнее, чем «руководящая и направляющая сила». Это был всеобъемлющий государственный орган, который держал в руках все нити управления страной. Система Советов, эта основная идея новой власти, существовала, но играла подчиненную роль. Отсюда ясно, какой тяжелый удар по управлению страной нанес М. Горбачев, когда была отменена 6-я статья Конституции СССР, не выдвигая ничего взамен.
К концу 20-х гг. основным следствием перехода к построению социализма в одной стране стала объективная необходимость формирования мобилизационного уклада жизни общества с соответствующим такому укладу характером системы власти, организации экономики и общественно-политической жизни. Мобилизационный, – значит, в зависимости от жесткости системы военный или полувоенный характер построения отношений государства, общества и отдельной личности, централизация и концентрация всех имеющихся ресурсов на решении крупной судьбоносной задачи, ограничением индивидуального потребления. Отсюда командный, административный, директивный тип отношений, который в наибольшей степени соответствовал контексту этого времени: необходимости в кратчайшие сроки достигнуть экономической независимости и обеспечить надежную обороноспособность. Такая система требовала в качестве своего обязательного условия наличия вертикально соподчиненных штабов реализации решений верховной власти и несения ответственности перед ней, чем, естественно, стали партийные комитеты различных уровней.
Мобилизационное построение общественной жизни с неизбежностью тяготеет к армейскому порядку вещей, где нет коллективного руководства, поскольку это наилучшим образом обеспечивает единство действий в достижении поставленной цели. Здесь область господства принципа «одна голова хорошо, а две хуже». Демократизм общества, его территориальное и производственное самоуправление при таких обстоятельствах неизбежно ограничиваются. Соответственно этому формировался общественно-политический заказ на основные личностные качества руководителей штабов, в том числе и высшего руководителя – политического главнокомандующего. Все это открывало дорогу к вершинам власти личностям, склонным к авторитаризму, особенно когда им была присуща огромная воля, организаторский талант, целеустремленность и настойчивость, умение организовать и дисциплинировать людей, идейная убежденность и политическая прозорливость, как это было в случае с И. В. Сталиным. Поэтому искушение впасть в «детскую болезнь левизны», сосредоточиться на негативном отрицании капитализма, и в возможности быстрого достижения этого увидеть построенный в основном социализм, нельзя не принимать во внимание. Особенно, если ввести в это предположение категорический характер Сталина и во многом авторитарный стиль его руководства: похоже он был несокрушимо уверен, что ему дано было знать, как выглядит построенный социализм. Характерный штрих в этом отношении. Когда Жуков в ответ на грубую критику Сталиным его действий в качестве начальника Генерального штаба, ответил, что просит отстранить его от этой работы, поскольку он лишь способен молоть чепуху, Сталин ответил: «Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся… Идите, работайте, мы тут посоветуемся и тогда вызовем вас».



