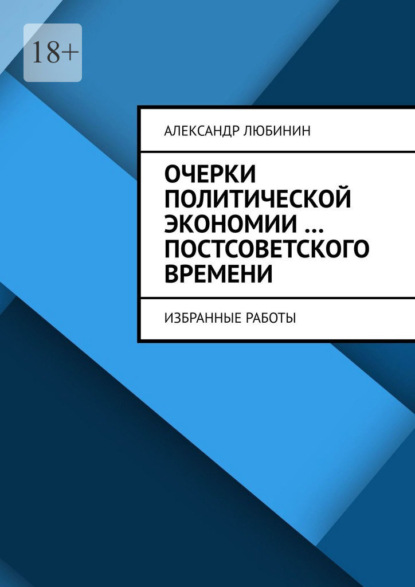
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
Но летальный исход никоим образом не был смыслом и целью доминирующего общественного сознания страны даже тогда, когда жители крупных городов выходили в конце 80-х гг. на массовые политические митинги. Да, угасание великой страны, вступившее в то время уже в лавинообразную стадию, протекало при непротивлении населения, его полной дезориентации и растерянности. Да, был откровенный обман в обещании перестроечных сил дать советским людям то, чего им ощутимо стало не хватать: больше демократии, больше социализма. Но надо признать, что это был обман людей, готовых быть обманутыми, добровольно и легковерно склонившихся перед обманом.
Перестройка вывернула наизнанку социальные ожидания и надежды, принеся в итоге распад Союза ССР, падение и стагнацию экономик всех бывших субъектов единой страны. И развал под видом срочно необходимых рыночных реформ систем образования и здравоохранения, мизерные пенсии и обширную нищету населения России. Даже спустя 30 лет после своего триумфа, новые власти не могут вывести страну из этого состояния. По данным Росстата уровень бедности в России оценивается в 11, 8% от всего населения. При этом ситуация по сравнению с 2021 годом улучшилась незначительно: тогда за чертой бедности находилось 12,1% населения или 17, 6 млн человек, в январе-сентябре 2022 года – 17, 2 млн. Конечно, что-то положительное делается, но бедность не рассасывается, остается главной социальной бедой. В преддверии президентских выборов 2024 г. борьба с нищетой акцентировано внесена Президентом в повестку дня работы Правительства. Само по себе это хорошо. Но подобное, несомненно, позитивное, хоть и сильно запоздавшее намерение высшей власти, фактически является признанием долговременного применения остаточного принципа даже к самому злободневному делу социальной отношений.
Сюжетное развитие всей драматургии советской истории от ее восхода до заката подчиняется сложившейся в свое время, вопреки теоретическим представлениям марксизма, необходимости строительства советского социализма при наличии двух ключевых особенностей.
Во-первых, непредвиденной и не допускаемой марксистской теорией обязанности большевиков вести подобное строительство в одной отдельно взятой стране, оказавшись ввиду этого среди своих экономически продвинутых недоброжелателей. Сначала ранний, а затем и поздний СССР не был окружен идейно близкими государствами. Постепенное дипломатическое признание советской власти западным миром было успехом, но не являлось отказом этого мира от враждебности. Возникновение социалистического лагеря улучшило внешнюю ситуацию, но каким-либо образом повлиять на систему социально-экономических отношений внутри Советского Союза не могло, поскольку общественный строй в СССР под влиянием, в том числе внешних угроз, к этому времени уже окончательно сложился во всей своей определенности и получил теоретическое закрепление.
Во-вторых, социалистическое переустройство страны нужно было вести при гигантском отягощении и усложнении этого процесса слабо выраженным развитием российского капитализма, с не доиндустриализированной экономикой и соответствующим уровнем цивилизационного развития общества, при низкой товарности отсталого аграрного сектора. Хотели этого большевики или нет, но социализм при таких обстоятельствах мог получиться, и получился, с ярко выраженной российской, а не западноевропейской спецификой, чем ему полагалось быть согласно марксистским взглядам, сформировавшимся на базе западного капитализма.
В своем ключевом теоретическом и практическом значении эти факты не были вполне осознаны во всей их глубине ни раньше, ни сейчас. На СССР, во все его годы, непрерывно давил императив – победить в борьбе за социализм в одиночку или погибнуть. Именно это, экзистенциональное по своему значению обстоятельство, задавало неоднозначную социально-политическую обстановку жизни советского человека, с одной стороны, действительно способного раньше думать о родине, и лишь потом о себе, а с другой, – не явившегося на войну за эту самую родину, утратив за годы тяжелой борьбы и нелегкой жизни веру в ее идеологические и морально-нравственные идеалы и преимущества.
Советской власти на пространствах Российской империи уже нет, а Россия, пусть и утратившая ряд территорий, ослабевшая, но геополитически все еще значимая, существует. Имея перед собой, сегодня не социалистическую, а уже вполне капиталистическую Россию, появление которой знаменует переход к очередной (после многовековой монархии, последующего очень короткого буржуазного периода и десятилетий советской власти) формы государственного устройства, принципиально важна и необходима объективная оценка роли Октября 17-го года не только в практическом осуществлении социалистической идеи, но, и, что не менее важно, в судьбе современной России, в том числе, в истории «Русского мира», в защите его уникальной цивилизации, которая соединила огромные пространства Евразии и множество народов, испокон веков живущих на этой земле. Что же Советской властью было сделано для России сегодняшней, насколько сделанное было своевременным и необходимым, а методы результативными? Можно ли было на истекшем историческом отрезке, начавшемся с ликвидации монархии, решить судьбоносные задачи сохранения страны иным, но столь же надежно обеспечивающим ее суверенитет, способом?
Тождество строительства советского социализма и защиты государственного суверенитета России
Указанная в заголовке постановка вопроса означает, во-первых, понимание истории России как единой в геополитическом значении и, во-вторых, требует признания приоритетности ее бытия как такового – существования во времени как независимого суверенного государства на сложившейся исторической территории. Это, можно сказать, идеология гражданского патриотизма, актуализирующая свое значение в острые и, в тем более, переломные периоды национальной истории, один из которых как раз и переживает Россия. Такую идеологию считает своей и, очевидно, руководствуется ею в государственной деятельности В. В. Путин, полагающий (не, бесспорно), что ничего другого России и не нужен14. Рациональное, пусть и содержательно не полное (гражданский патриотизм, т.е. патриотизм без идеологии, «патриотизм вообще», «не замечает» и не дает ответы на ряд принципиально важных вопросов жизни социально-структурированного современного российского общества15), основание у этой идеологии есть. Ведь разным могло быть и было государственно-политическое устройство нашей страны, как и отношение к нему, соответственно разными могут представляться ее геополитические устремления, социально-экономические итоги, достигнутые научно-технические результаты, сделанное в сфере здравоохранения, культуры и образования, сформировавшаяся нравственная атмосфера и укоренившиеся моральные устои общества. Но даже при тех обстоятельствах, когда не все обстоит благостно, ничего еще не потеряно пока существует родная страна со своим сложившимся веками культурно-историческим типом, определяющим ее самобытность и своеобразие, пока окончательно не утрачен ее сложившийся мировой статус. Ведь Россия может существовать только как великая держава, даже региональный статус ей противопоказан. Родина при таком понимании абсолютная моральная ценность и высший символ веры. Тут находится та единственная и сакральная область, в рамках которой оправданы слова: «Мы за ценой не постоим. Победа любой ценой». Иного здесь точно не дано, поскольку этой иной, и абсолютно недопустимой стороной, является поражение Родины и ее утрата. Такова, не исключено, быть может, трагическая, но неизбежная, что не исключено, плата за сохранение Родины как особого самостоятельного и самобытного субъекта современной цивилизации. При этом любовь и лояльность к Родине не обязательно совпадают с лояльностью к власти. «Свою страну, – так определял данную ситуацию Марк Твен, – надо поддерживать всегда, правительство – лишь в той мере, в какой оно этого заслуживает».
Безусловный факт заключается в том, что строительство социализма в одной, отдельно взятой, стране, а потом и в советском блоке стран, несмотря на идеологический социально-классовый приоритет и соответствующую общественно-политическую риторику в первую очередь было «загружено» решением вопросов поддержания обороноспособности и сохранения государства. Здесь было средоточие главных задач и интересов, сюда в первую очередь направлялись материальные и интеллектуальные ресурсы страны, под решение этой задачи выстраивалась хозяйственная структура и система управления ею, поддерживался высокий социальный и материальный статус военных людей, велось военно-патриотическое воспитание.
Теперь в сложившейся ныне исторической реальности крупно-плановых, принципиально значимых вопросов, связанных с Октябрьской социалистической революцией, больше одного: это не только судьба социалистического проекта и жертвы, понесенные при его реализации, как привычно подразумевается, когда речь идет о большевистской революции в России, а два. Второй, – не менее значимый в современном контексте вопрос – роль Октября 17 года в сохранении государственной независимости России.
С утверждения в ходе серьезной идейной борьбы, сопровождавшейся кадровыми чистками и репрессиями, затронувшими десятки тысяч людей, концептуально нового подхода к пониманию задач страны – строительства социализма в одной отдельно взятой стране (вместо курса на мировую революцию) – возникло противоречивое, но, тем не менее, действительное, тождество судеб социализма в России и существования России как таковой. Причем в данном тождестве в качестве ведущей стороны на всем протяжении существования СССР фактически выступал национальный суверенитет, а вопросы построения социализма, опять же фактически (но не политико-идеологически), получали второстепенное и производное значение. Суверенитет страны был безусловной целью, тогда как социализм при всей его исторической значимости выступал общественной оболочной решения этой задачи, формируя ее формы в их конкретности.
Так получалось потому, что из логики концепции строительства социализма в одной отдельно взятой стране железно следовало, – чтобы идти к социализму должна сохраняться страна, как решающее условие проведения в ней социалистических преобразований, в ходе которых для всего мира должны быть доказаны преимущества нового общественного строя. Вопрос победы социализма во всемирном масштабе, таким образом, не снимался с повестки дня, и сохранялся как общий политический ориентир, заданный Октябрьской революцией. Но, в силу новой формулировки старой задачи, маршрут в дорожной карте, как бы сейчас сказали, стал неопределенно долгим и определенно рискованным, поскольку предполагал в качестве своего основного условия победу в экономическом соревновании с капиталистическим миром. Никаких сомнений в достижении этой победы у современников не было.
Логика строительства социализма в отдельной стране в противоборстве с остальным миром, автоматически делала национальный суверенитет доминирующим делом. Иной тип мышления, носителями которого выступали в раннем СССР ряд видных деятелей партии и государства, был бы гибелен как для сохранения страны, так, соответственно, и для перспектив строительства в ней социализма. В итоге состоявшейся переориентации образовался особый по форме, советский, (в ряду предшествующих форм) этап обеспечения суверенности и социально-экономического развития страны, сохраняющийся, по крайней мере, до начала перестроечного времени, когда тождество социализма, и государственного суверенитета в новом политическом мышлении перестало быть доминантой, что в полной мере проявилось в названии проектируемого нового союза – СНГ, призванного прийти на смену СССР. При этом сначала ослабляющаяся в перестроечное, а затем и распадающаяся в постперестроечное время связь социализма и государственной независимости, фактически поставила на грань существования национальный суверенитет России. По крайней мере, для значительной части пришедшей к власти политической элиты, этот вопрос перестал носить принципиальный и безусловный характер, чем он, во многом, остается и в настоящее время, несмотря на СВО, акцентированную властными силами пророссийскую риторику, патриотические поправки и изменения, вносимые в законодательство, и проводимую внешнюю политику. Дело в том, что экономически страна с каждым годом все больше отстает от научно-технических тенденций и средних темпов мирового развития, имея собственный среднегодовой темп увеличения ВВП около одного процента. Но продолжает вести себя так, как будто ее это полностью устраивает, и никакой опасности в подобном положении нет.
Переход к строительству социализма в отдельной стране неразрывно соединил воедино, до полного тождества, идеолого-политические (интернациональные) и возникшие патриотические (национальные) мотивы, обеспечив дополнительную прочность советскому общественному строю. Непротиворечиво и органично совместились две, казалось бы, разные задачи: сохранение советской власти на территориях бывшего российского государства, и защита исторической России. Причем национальная идеология слилась с классовой не за счет классовой, как это произошло, например, с Германией перед Второй мировой войной, приведя эту страну к национал-фашизму. Сочетание отмеченных выше задач потребовало отказа от последствий, возбужденного перспективами мировой революции интернационального сознания и повороту к традициям и героике местной, национальной, жизни. Эти процессы сделались особенно заметными в годы Отечественной войны, но проявились уже в 30-х гг. Лозунг «За Родину, за Сталина» возник еще до начала Отечественной войны и отражал обе указанные стороны социально-политической жизни СССР, поставив на первый план все-таки Родину.
Об Октябрьской революции, как и о десятилетиях Советской власти, можно судить с совершенно разных, и даже противоположных, социально-экономических позиций на том простом основании, что реальная жизнь социума всегда многозначна, и ее отражение в общественном, не говоря уже о личном сознании, неизбежно субъектно окрашено. Где-где, а здесь уж точно, без «чуйств», как объяснял персонаж А. Райкина, ничего не пишется и не говорится, сколько бы себя и других не уверяли в обратном.
В соответствии со своими чувствами и оценками официальную историю несут в массы, конечно, только победители. Состоявшийся разгром противника, открывает ничем не сдерживаемую возможность его последовательного и безнаказанного, как заслуженного, так и любого иного, порицания. Ссылка на необходимость полного раскрытия обществу, для его же пользы, ранее сокрытой и искажаемой исторической правды всегда является обязательным мотивом этого. Тут уж, как говорили мудрые древние греки, горе проигравшему: ополчившиеся на него победители обычно не считают своей обязанностью быть хоть сколько-нибудь объективными. Нет милости для потерявшего былую военную силу, не заслуживает снисхождения тот, кто утратил политическую власть и влияние, особенно если оказывается, что в общественном сознании спор старых и новых социальных смыслов не закончен и оценки сменивших друг друга государственных режимов продолжают идеологически конкурировать.
Победный обман может продолжаться долго, но и он имеет свои пределы. Наши потомки, которые через много лет будут изучать историю Октябрьской революции и советского социализма, обретут, надо думать, устойчивую объективность взгляда, психологически трудно достижимую сегодня, как сторонниками социализма, так и его оппонентами. Пока же большие усилия затрачиваются на то, чтобы внести в массовое сознание утверждение, согласно которому не было никаких исторически раздирающих российский социум обстоятельств, которые требовали столь радикального революционного сдвига, а был авантюрный, не отвечавший ситуации в стране и чаяниям народа государственный переворот, совершенный российскими экстремистами от марксизма. Захват власти большевиками, согласно такому представлению, стал проклятьем для исторической России, подорвав ее материальные и духовные силы. Россия потеряла ХХ век, пропагандистки броско объявит свой уничижительный итоговый вердикт периоду Советской власти, начатому Октябрьской революцией, официально почитаемый ныне А. Солженицын.
Но если кто-то теряет, то кто-то другой, обдуманно указавший на заведомо спорную потерю, стремится в этом для себя что-то найти, тут всегда не без выгоды. Так и случилось. На теме «пропустившей ХХ век России», ставшей выигрышной в силу развернувшейся «холодной войны», которая сделала первым делом и первым удовольствием заинтересованных лиц, яростную и безапелляционную критику всего советского, А. Солженицын, в порядке компенсации, приобрел всю свою политико-литературную известность. Но разве такой сознательно усеченный способ обретения исторической истины, когда громкие публичные эффекты ставятся выше реальных фактов, давал хотя бы гипотетическую возможность сказать всю правду о России ХХ-го столетия? Правды, не предусматривающей аплодисменты Запада и выплаты им комиссионных? А она бесспорна в том, что Россия, как бы там ни было, вовсе не потеряла ХХ век и не потерялась в нем. В минувшем веке истории земной цивилизации абсолютно ничего нельзя понять без России, всего происшедшего с ней и в ней. В самом деле, могла ли страна, которая столетие потерянно стояла в стороне от развернувшегося в мире небывалого научно-технического прогресса, одержать великую победу в навязанной ей фашистской Германией, войне. Быстро затем восстановить разрушенное народное хозяйство и первой отправить человека в космос. У. Черчилль, блиставший умением выражаться публицистически точно и ярко, при всей своей, мягко говоря, традиционной для англосакса не любви к нашему отечеству, как известно, увидел в России ХХ века страну, проделавшую путь от сохи до атомной бомбы, государственное образование, которое не только не потеряло для собственного возвышения судьбоносный век, а, напротив, прожило его необыкновенно динамично и плодотворно, несмотря на суровые времена, лишения и утраты. В то же время, разве сегодня для России не реальнее, чем раньше, опасность потерять не ушедший век, чего как раз не случилось благодаря мерам, своевременно принятым большевиками, а текущий век и себя в нем ввиду реальной опасности утратить тот необходимый уровень защиты суверенитета, который успешно обеспечивала Советская власть и социалистическая идеология, а до этого самодержавие.
В бедах России ныне модно винить Октябрьскую революцию, оставляя в ее тени события февраля 1917 г. и все, что неизбежно и неумолимо подводило к ним. Но эти два процесса связаны неразрывно. Только взятые вместе, в своем взаимодействии они объясняют сдвиг траектории движения страны к социализму. Будучи радикально противоположными по составу участников, своим движущим силам и социально-политическим последствиям октябрьский процесс вырастал из результатов февральского, организованного кадетами и октябристами (либералами того периода времени) в союзе с эсерами и меньшевиками. При этом ключевым событием здесь является не только свержение самодержавия. Не менее важно учесть тот редко упоминаемый факт, что страна оказалась единой в стремлении к социализму! Символом февральской революции был отнюдь не триколор, а красный флаг и красный бант. На выборах в Учредительное собрание более 90% голосов получили социалистические партии! Они принципиально расходились между собой в том, каким им видится социализм и по какому пути следует к нему идти. Тем не менее, итоги выборов красноречиво говорили о том, что в силу своего исторически сложившегося менталитета, социально-экономических условий жизни, обстановки, возникшей в связи с падением монархии и ведущейся маловразумительной тяжелейшей войны, общественное мнение России развернулось в сторону социализма, оказавшись в этом отношении впереди европейских стран. Отставая от этих стран в темпах политического развития на огромный исторический отрезок16, Россия в ХХ веке стала лидером в стремлении общества к обретению социальной справедливости. Как и Франция до нее, она в свою очередь опровергла убеждение В. Карамзина о том, что «История принадлежит царям», ясно показав, что, в конце концов, «История принадлежит народам», в чем глубоко были убеждены уже декабристы.
Социалистически ориентированные на момент февраля 1917 года массовые настроения населения России, столетиями мирившегося с диктатом монархии, для западного человека из категории «умом Россию не понять». Но в этом суть ее загадочного социума, «зараженного» неискоренимой тягой к справедливости, которая раньше или позже, но неизбежно выплескивается на поверхность общественной жизни и заставляет с собой считаться. Вопрос лишь в том, есть ли политическая сила, сознательно готовая стать последовательным выразителем и ответственным представителем этих настроений перед обществом.
Именно в «февральском безумии 1917 года», чем со стороны казались события того времени, следует видеть исходный пункт всего происшедшего с Россией в ХХ веке. Взяв государственную власть после свержения монархии, респектабельные, самоуверенные и амбициозные лидеры оппозиции проявили полную беспомощность в организации практического управления страной. Распад устоявшейся монархической государственности в обстановке участия России в 1-й Мировой войне именно тогда, когда потребовалась созидательная государственная работа, вызвал у них растерянность перед начавшимся в стране разложением всех социальных институтов, действием непонятных им сил, таившихся в самой нации. Они были талантливы и удачливы в борьбе с домом Романовых, но оказались не готовы ни идейно, ни организационно, ни в кадровом отношении к управлению такой сложной страной как Россия, пораженной в тот период всеобщим недовольством и торжествующей анархией. Помимо прочего, сказалась слабость и недоразвитость российского капитализма, в том числе из-за краткости периода его существования, которая естественным образом порождала отсутствие опыта государственного управления новой Россией и, как следствие, неумение буржуазных сил, пришедших к власти, организовать необходимую созидательную работу. В тот момент ситуацию могла спасти только сила, способная обратиться к широким массам, сплотить их, повести за собой и тем самым остановить распад. Все три Временных правительства, несмотря на свои чрезвычайные полномочия, не только не стабилизировали социально-политическую ситуацию, а лишь усугубляли ее, в том числе развязывая руки местническим и националистическим силам, начавшим выходить со своими территориями из состава российской империи.
Революционный этап в жизни общества всегда возникает как следствие устранения созревшего и, как правило, перезревшего глубокого социально-экономического основания, в качестве решающего условия дальнейшего общественного прогресса. Было ли такое фундаментальное основание в российской действительности, подспудно подводившее к двум революциям 17 года? Можно говорить, и вполне обоснованно, о действии совокупности различных обстоятельств: о слабости Николая Второго, как венценосца и правителя, роли политической конкуренции, внутренних заговорах и заговорах иностранных держав, и многом другом, действительно имевшем место и оказавшем свое ощутимое влияние на политическую жизнь. Но все эти и другие подобного рода обстоятельства, воздействуя лишь на верхушечные, внутриэлитные процессы, не могли бы ни создать устойчивого революционного настроения масс, ни объяснить характер их ожиданий и требований к власти. Радикализировать ситуацию до ее высшего напряжения, втянув в нее все слои населения, может только обязательное наличие судьбоносного для страны вопроса, решение которого давно назрело, но затягивается. Этот вопрос напрямую может не присутствовать непосредственно в каждом конкретном событии политической жизни, но именно он, явным и не явным образом, в конце концов, образует общую линию развития социально-политической обстановки. Наличие такого вопроса и характер его разрешения – дают закономерность в истории, которая пробивает себе дорогу, несмотря на сдерживающие и противодействующие обстоятельства. В социальной истории России таким ключевым вопросом ее жизни стал вопрос о земле, сомкнувшийся к 17 году во всей своей остроте с вопросом о мире. Ставшее неизбежным изменение правовых основ землепользования в любом его варианте означало ломку сложившейся социально-классовой структуры российского общества, и было, как для царского правительства, так и возникших в начале ХХ века представительных органов сложной проблемой.
История не имеет сослагательного наклонения. Она по определению состоявшийся факт, который не может быть прожит иначе, чем это уже случилось. Время вспять не воротить. В то же время понимание истории, пути по которому она пошла без сослагательного наклонения невозможно. Это как школьная работа над ошибками: проанализировать их можно и нужно, а изменить написанный диктант – нельзя. Сослагательное наклонение в истории – не что иное, как фактическое исследование предыстории, ставшей историей. В этом отношении сослагательное наклонение актуально для истории и отрицать его бессмысленно, поскольку анализ происшедших событий все равно, так или иначе, ведется.



