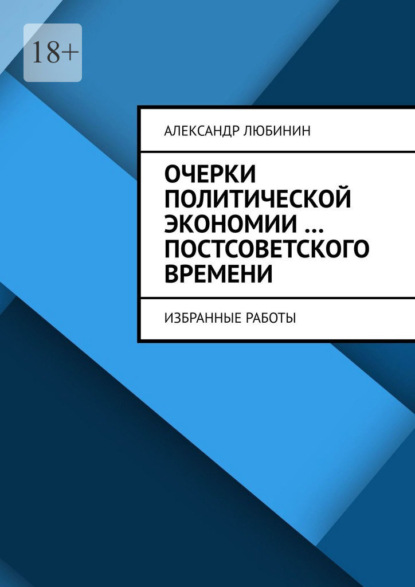
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
Складывающийся мобилизационный, неизбежно бюрократизированный насквозь уклад, ограничивал не только простого человека, но и всю служебную иерархическую систему управления в творческих проявлениях. В то же время он значительно выигрывал в ответственности за порученное дело и в исполнительской дисциплине, что являлось важным приоритетом того времени. Мобилизационному укладу нужны были люди подобные И. В. Сталину. И страна их получила. Время всегда дает шанс, выталкивает вперед наиболее соответствующий ему человеческий тип, который по своим личностным качествам отвечает драматическим обстоятельствам текущего времени. Кадры решают все, не только в низшем и среднем звене, что отражал известный пропагандистский лозунг, но, прежде всего, на самом высшем.
Как видим, важнейшие характеристики советского социализма закладывались под влиянием не столько злой или доброй воли руководителей, сколько под воздействием объективно насущных обстоятельств18, которые готовы учитывать далеко не все, берущиеся судить об истории советского социализма
С этим связано многое, кажущееся сегодня совсем странным, когда события рассматриваются исключительно с позиций национальных интересов современной России, вместо фактического доминирования интернациональных интересов особенно в самый первый период после революции. В их числе тезис об отсутствии у пролетариата отечества, и идея взятия власти не в самой экономически передовой стране, Брестский мир, отчасти НЭП и национальная политика Ленина, положенная в основание образования СССР (об особом историческом контексте которой напрочь забывают критики ее федеративной конструкции), которая предлагалась всем странам и народам как образец для решения национального вопроса, а применительно к России была необходима еще и для ее восстановления в сложившихся границах. Сюда же следует отнести и редко упоминаемую попытку перевести на латиницу сначала языки тюркских народов СССР, цивилизационно смыкая их с языками народов мира (латинские алфавиты были разработаны более чем для 52-х языков при общей их численности равной 74) для создания условий, обеспечивающих «универсальное общение людей», когда «наконец, местно-ограниченные индивиды сменяются индивидами всемирно-историческими, эмпирически универсальными» [31,с.33—34]. Переход на латиницу готовился и для русского языка, что с позиций сегодняшнего времени однозначно воспринимается как «ужас – ужас». В то постреволюционное время В. И. Ленин благосклонно относился к подобной затее, усматривая в данном обстоятельстве интернациональное единение всех народов мира необходимое для победы того, что было поставлено им во главу угла – мировой революции. Это была идея интернационального, планетарного свойства. Ее применимость предполагала состоявшуюся победу мирового социализма и наступление новой исторической эпохи, которая в первые послеоктябрьские годы большинству активных революционеров казалась вполне достижимой. Идеи такого рода были направлены на устранение многочисленных оснований для политико-экономических противоречий и национальной розни между странами, имели целью сближение наций, вместо их постоянного и кровавого противостояния в истории. Суверенитет России при этом не нарушался, поскольку, включившись в социалистический мировой процесс, она не становилась от этого немецкой, британской или какой-либо еще. Этот способ единения народов исключал посягательство на чей-нибудь суверенитет и снимал саму эту проблему с повестки мирового развития. Другое решение этой проблемы означает ущемление чужого суверенитета по праву сильного с неизбежным доведением этого посягательства до применения военной силы со встречными действиями противоборствующей стороны, если она не согласна на внешний диктат. Только с учетом этого обстоятельства ленинское интернациональное понимание отношений между народами может быть адекватно понято и критически осмыслено сегодня.
Переход к социализму по классическому предвидению в качестве всемирного явления совершенно исключал бы, случись такое, необходимость мобилизационного плана действий, резких и жестко проводимых структурных сдвигов в экономике и внутренней политике (о чем велись жаркие споры в партийно-государственной и научной среде), которые стали необходимыми при построении социализма в одной отдельно взятой стране, да еще находящейся в окружении недоброжелателей. В иных обстоятельствах оказалась бы и теоретическая мысль, поставленная перед необходимостью защищать тот социализм, который фактически складывался под давлением фатальных обстоятельств, находя себе оправдание в том, что историческое развитие пошло не совсем так, как предполагал К. Маркс, и поэтому, в данном конкретном случае, руководствоваться следует не буквой, а духом марксизма.
В связи с тем, что пошаговая инструкция социалистических преобразований отсутствовала и отсутствует, поскольку, оставаясь на научной почве, она просто не могла быть написана ни Марксом, ни кем-либо еще, перед взявшими власть большевиками, во весь рост встал одновременно и ответственнейший, и тяжелейший вопрос, что и как делать? Тут затаилась настоящая «ловушка» для революционеров: надо действовать, время не ждет, а нет ни рекомендаций, ни опыта, риск неверных решений огромен.
Представления К. Маркса о хозяйственном устройстве социализма полностью теоретически выводились им из закономерностей развития рыночной системы хозяйства и капиталистических отношений собственности, с преодолением которых социализм в силу этого неразрывно связан. При этом К. Маркс не дал ничего, что могло бы называться моделью или проектом производственных отношений социализма, ничего, что указывало, хотя бы на попытку прописать что-либо детальнее, чем это требовалось для выражения самой общей, но принципиальной идеи: социализм – система, отрицающая частную собственность, рынок как экономическое условие ее воспроизводства, эксплуатацию человека человеком; социализм – сознательное и в связи с этим плановое хозяйствование, что возможно лишь в условиях общественной собственности на средства производства. Нигде в работах К. Маркса не указывается, в каких реальных формах и как практически следует осуществлять совместное владение средствами производства и совместный контроль над ними, какова в деталях должна быть социальная организация общества, со своей стороны обеспечивающая такую возможность.
Все, кто знаком или захотят познакомиться с текстами К. Маркса и Ф. Энгельса, затрагивающими данный вопрос, при буквальном прочтении этих текстов, без субъективных попыток прочитать что-нибудь «между строк» или «за текстом» и затем вменить почерпнутые таким образом собственные мысли и чувства взглядам К. Маркса, не смогут извлечь из них больше указанного выше содержания. В рецензии в связи с публикацией 1-го тома «Капитала» Ф. Энгельс указал, что К. Маркс рассматривает в «Капитале» будущее общество «лишь в самых общих чертах» [32, с. 221]. Это свойство взглядов К. Маркса на социализм он подчеркивал и в дальнейшем: «…Все миропонимание (Auffassungsweise) Маркса – это не доктрина, а метод. Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследования» [41, с. 352]. Поэтому необоснованно видеть в высказываниях К. Маркса больше того, к чему эти высказывания относились и для чего они предназначались их автором: конкретно-исторический метод К. Маркса отрицал научность любых суждений о деталях той общественной жизни, которой предстояло возникнуть в неопределенном будущем и, следовательно, в не до конца известных развивающихся и изменяющихся формах.
Теория социализма Маркса – это взаимосвязанная совокупность научно поставленных вопросов о социализме. Но не теория их конкретного решения на практике в реальном историческом процессе. Когда Маркса просили назвать конкретные пути перехода к будущему обществу, он, учитывая тщетность попыток предвосхитить всю совокупность возможных обстоятельств, отвечал: «Мне кажется, что „вопрос“ … поставлен неправильно: что следует делать непосредственно, конечно же, зависит от данных исторических условий, в которых придется действовать. Но в данном случае вопрос поставлен совершенно отвлеченно, представляет собой фантастическую картину и единственным ответом на него должна быть критика самого вопроса. Мы не можем решать уравнение, не содержащее в своих данных элементов своего решения» [41, с.132]. Развернутое суждение о социализме, который должен возникнуть в неопределенный по времени момент в будущем, могло быть только застывшей доктриной, а не научной теорией.
Практика социалистического строительства в СССР не могла не воплотиться в каком-то конкретном виде, и, в связи с этим самим своим фактом действительно вылилась в определенную модель и, соответственно, в ее теоретическое обоснование. Но был ли К. Маркс автором этой модели, или в ее появлении он оказался без вины виноватым?19 Ответ на этот вопрос содержится в анализе того, в каких случаях, на каком теоретическом основании и в связи с чем К. Марксом были выдвинуты крайне немногочисленные, поразительно осторожные и абсолютно ограниченные лишь выражением общей идеи замечания относительно социализма.
Делалось это в двух принципиального свойства случаях.
Во-первых, суждения К. Маркса о социализме появлялись в связи с оценкой глубинных, сущностных черт капиталистического производства в «Капитале», которые остаются неизменными на любой стадии его развития. Социализм в этом случае выдвигался как антипод сущности капиталистического устройства жизни. Поэтому дальнейшее развитие капитализма, сохраняя эти родовые черты, не только ничего не меняет в характеристиках сущности буржуазного строя, а, напротив, делает их еще более определенными. В связи с этим не имеет никакого отношения к действительным взглядам К. Маркса критика этих взглядов за недооценку социально-экономического потенциала современного ему западного капитализма, обеспечившего в ходе поступательного развития в ХХ веке высокий жизненный уровень для наемных работников. С точки зрения классического марксизма капитализм закономерный исторически преходящий способ производства, сколь неопределенно долго он бы не сохранялся. Но, чем дольше это происходит, тем более зрелыми оказываются предпосылки социализма, полнее его социально-экономическая и политическая подготовка: раньше или позже на выходе этого процесса возникнет общественное владение средствами производства и общественный контроль над ними.
Во-вторых, характеристики социализма давались К. Марксом в ходе его противодействия распространению вульгарных представлений о социализме, требующих их критики с позиций развиваемой им науки. Этим объясняется то, что наиболее развернутые положения о двух фазах коммунистического производства содержатся в частном письме К. Маркса руководителям немецких рабочих партий к объединительному съезду в Готе в связи с принимаемой программой, в основу которой была положена возмутившая К. Маркса «догма Лассаля» о «справедливом» распределении «неурезанного трудового дохода». Этот документ был после смерти К. Маркса опубликован Ф. Энгельсом и стал известен как «Критика Готской программы».
Исследователи, которые сегодня обращаются к высказываниям К. Маркса, нередко движимые возникшей модой на его критику, не проявляют должной внимательности и осмотрительности, оценивая взгляды К. Маркса на социализм. К этому ряду необоснованных оценок относятся, в том числе, утверждения Ю. Голанд и Ф. Никипелова, исходя из которых в «Российском экономическом журнале» была объявлена дискуссия относительно существования у К. Маркса «Социалистического проекта», модели, замысла [3, с.44—47], где, во-первых, «в рамках сформулированной классиками марксизма модели социализма… нет места коллективным (групповым) субъектам экономических отношений. Все общество становится единой фабрикой» и, во-вторых, что у К. Маркса «неприятие рынка носило прежде всего моральный характер…» [3, с. 45, 46]. Авторы этих суждений, однако, явно ошиблись адресом, указывая на К. Маркса как на автора субъективных, морализаторских взглядов, починяющих себе объективное суждение. Действительная позиция К. Маркса заключалась в том, что «все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении частной собственности…» [42, с. 117]. Для К. Маркса дело заключалось как раз в самой действительности, а не в праведном, но независимом от осмысления этой действительности, негодовании. Как и о любом человеке, о К. Марксе можно говорить много разного за исключением, однако, того, что он отвергал рыночное хозяйство и капитализм не в силу объективных закономерностей их развития (которые он сам же и установил), а в духе социалистов-утопистов исключительно по моральным соображениям, ввиду чего групповые субъекты и рынок, по основаниям совсем не научного свойства, были лишены им своего законного места в теории социализма.
Моральные соображения как основание для установления закономерностей общественного развития – это взгляд на историю совсем с другого, радикально противоположного марксизму «берега»20. В противовес К. Марксу и всем социалистам корифей либерализма Ф. А. Хайек, «посвятивший жизнь борьбе с социализмом во всевозможных его проявлениях» [56, с. 15], в первую очередь, именно по моральным соображениям, не принимал социализм21 и вообще все то, что может трактоваться как «социальная справедливость»22.
Суждения Ю. Голанд и А. Никипелова об «известной конфликтности коллективистских отношений» плод авторской интерпретации текстов К. Маркса, которая никакого отношения к этим текстам не имеет. Не обнаруживая в мыслях К. Маркса о социализме упоминания о коллективных субъектах хозяйствования, авторы указывают на «чрезмерное упрощение» им научного предвидения будущего, «недостатки этого предвидения», среди которых «пожалуй, главным недостатком… представлений о будущем устройстве экономики являлось неприятие рыночных отношений» [3, с. 44].
Рынок, а не план как основа социалистического хозяйства, сочетание плана и рынка – в любой из этих (и других с набором данных элементов) словесных конструкций, появившихся в ходе обсуждения экономических проблем СССР и других стран советского блока, присутствует явная или скрытая неудовлетворенность, несогласие со взглядами К. Маркса на социализм. Так происходит исключительно потому, что эти взгляды напрямую в той или иной мере отождествляются с обнаружившимися проблемами и неудачами практики осуществления социализма, выявившей роль коллективных интересов и рыночных факторов в повышении производительности труда, сбережении ресурсов, обеспечении народнохозяйственной пропорциональности, приведение в соответствие структуры потребительских товаров со структурой потребностей населения.
Но почитание К. Маркса, возведенное в абсолют в странах социализма, вовсе не означает, что его теоретические взгляды были восприняты аутентично. К оценке взглядов К. Маркса на социализм нужно подходить не с позиций сложившейся практики, не исходя из того, что получило название «социализм» по образцу СССР, как это делают, в том числе Ю. Голанд и А. Никипелов, а, напротив, с позиций марксистской классики давать оценку тому, насколько им соответствует тот социализм, который исторически возник, стал ли он не только отрицательным, но и «положительным упразднением капитализма» [42, с. 117,127, 131, 169].
У К. Маркса нет ни одного суждения, в котором он бы утверждал, что в обществе, организованном как сознательная планомерная ассоциация «нет места коллективным (групповым) субъектам экономических отношений». Нет просто потому, что он никогда не ставил проблему механизма функционирования такой ассоциации, тем более что теоретически ни из чего не следует возможность для коллективных субъектов реализовать себя исключительно в рыночной системе. Так ведь и распределение по труду можно признать (и это делалось) исключительно рыночным феноменом.
И тем более в теоретическом наследии К. Маркса нет приписываемого ему положения, которое является едва ли не общепризнанным, о том, что социалистическое общество становится «единой фабрикой». «Буржуазное сознание, – писал по этому поводу К. Маркс, – с одинаковой горячностью поносит всякий общественный контроль и регулирование общественного производства как покушение на неприкосновенные права собственности, свободы и самоопределяющего „гения“ индивидуального капиталиста» [36, с. 369]. При этом, продолжает К. Маркс, «весьма характерно, что вдохновенные апологеты фабричной систем не находят против всеобщей организации общественного труда возражения более сильного, чем указания, что такая организация превратила бы все общество в фабрику» [36, с. 369].
Система всеобщей организации общественного труда, включающая в себя общественный контроль и регулирование общественного производства, является антиподом «единой фабрики», так же как всеобщая планомерность является антиподом рынка. Фабрика в любом ее виде: от микро- до макроуровня это лишь технологические, математически просчитанные сопряжения различных звеньев и элементов производственного процесса, что исключает любые общественные формы, опосредующие пропорции этих сопряжений. Критики социализма как «единой фабрики» рассматривают в качестве краеугольной истины марксизма собственную выдумку – отрицание К. Марксом обстоятельств, которые в действительности являлись для него ключевыми в понимании социализма. Запущенный еще во второй половине Х1Х века, направленный против воззрений К. Маркса на социализм и «убитый» им аргумент о «единой фабрике», в своей исторической эволюции, в том числе не без влияния (пусть и невольного) практики строго централизованного директивного планирования в СССР, превратился в положение, якобы выдвинутое самим К. Марксом.
Таким же приписыванием К. Марксу чужих мыслей и дел является убеждение Ю. Голанд и А. Никипелова, согласно которому К. Маркс предложил «механизм реализации» принципа распределения по труду [См.: 3, с. 45]. Однако К. Маркс будучи последовательным в своей позиции прогнозировать в отношении социализма только то, что касается его противостоящей капитализму сути, позволил себе высказываться только о «принципе», в данном случае – принципе распределения по труду, при котором «каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему» [34, с. 18], пояснив, что этот принцип содержательно и по форме будет отличаться от обмена равных стоимостей: «Производители могут, пожалуй, получать бумажные удостоверения, по которым они извлекают из общественных запасов предметов потребления то количество, которое соответствует времени их труда. Эти удостоверения не деньги» [33, с. 402].
Конечно, тот высочайший пиетет, с которым советская общественная наука привычно относилась к К. Марксу, вводит в искус увидеть в данном и других высказываниях основоположника социалистической теории механизм, проект, модель, что-то достаточно проработанное хотя бы в первом приближении. Но «почетную» честь представить его пророком всеобщего пути, «по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются» [43, с. 45]. К. Маркс решительно отвергал. «Это было бы, – подчеркивал он, – и слишком лестно и слишком постыдно для меня» [43, с. 45].
Неизбежность переходных форм в ходе становления социализма
Еще одна особенность суждений К. Маркса о социализме заключается в том, что объективное основание для своих высказываний К. Маркс усматривал в появлении при капитализме переходных форм. В ХIХ веке велась жаркая полемика вокруг проблем теории развития, связанная, прежде всего, с именами Ж. Ламарка и Ч. Дарвина. К. Маркс живо интересовался этим вопросом, создавая теорию развития общества, основание которой составляет развитие экономических отношений. Ему было хорошо известно о содержании и использовании понятия «переходная форма» в эволюционном учении. Поэтому появление в «Капитале» словосочетания «переходная экономическая форма» не было случайно и условно примененным понятием, а явилось непосредственной реакцией К. Маркса на подобного рода проблемы в социологии. Научно обосновывая, что в условиях капитализма социалистические отношения возникнуть не могут, он, однако, считал оправданным использование понятия «переходная форма» для обоснования социалистических взглядов.
Конкретность суждений К. Маркса относительно возникающих переходных форм резко различается в зависимости от степени вероятности их возникновения. Когда речь идет о переходных формах к новому способу производства, возникающих в недрах капитализма суждения абсолютно конкретны. К. Маркс считал принципиально важным с точки зрения исторической логики «Капитала» подчеркнуть: банковско-кредитная система, акционерная форма капитала и кооперативные общества составляют переходные к социализму экономические формы. Подобная определенность – прямой результат существования этих форм в капиталистической реальности. Здесь К. Маркс совершенно точен, ничего не оставляет «на потом».
Также определенно, хотя уже как о вероятном событии, К. Маркс говорит о переходных формах революционной переделки капитализма, включая сюда кооперативы, аренду, земельную ренту, кредит. В данном случае вероятность применения всего набора данных переходных форм или определенной их части уже относительна (что-то может понадобиться, а что-то нет), но она, все же, достаточно высока, поскольку выводы опираются на то, что уже сформировалась, реально существует перед глазами вдумчивого исследователя. Именно в отношении этих процессов В. И. Ленин писал, что «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал „новое“ общество. Нет, он изучает как естественно-исторический процесс рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому» [17, с. 48].
Конкретизация элементов общественной жизни у Маркса оказывается еще более за пределами предсказуемой реальности, когда ставится вопрос не о переходе к будущему обществу, а о том, каким ему быть. «Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? – повторял Ф. Энгельс, заданный ему вопрос, и отвечал: – Вы и намека на них не найдете у нас» [35, с. 563].
С этим обстоятельством связана странность, которую нельзя не заметить: при полном внимании к вопросам экономической подготовки социализма в недрах капитализма, анализа с этих позиций его новой монополистической стадии, выводящей сознательное хозяйствование и планомерность, как и предвидел К. Маркс, за пределы отдельных хозяйственных единиц, никаких разработок проектов организации хозяйственной жизни в будущем обществе в дореволюционной отечественной и зарубежной марксистской литературе так и не появилось.
Подводя краткий итог, можно сказать, что взгляды К. Маркса на социализм определяются тремя принципиальными моментами.
Первый, объективным основанием закономерной смены капитализма социализмом являются возникающие в ходе развития капитализма предпосылки социализма в виде переходных форм к новому строю23. С большей или меньшей полнотой, но данное, указанное К. Марксом обстоятельство, было воспринято всей социалистической мыслью: и ее революционным крылом, и крылом реформистским. Факт наличия переходных форм не отрицался, разными были выводы из данного факта.
Второй момент заключается в том, что априорно, основываясь лишь на закономерной эволюции капиталистического строя, может быть определена только концентрированная суть социализма, то, что он будет представлять собой в конечном итоге в качестве исторической противоположности общества, которое его подготовляет. Конкретнее ничего сказано быть не может, поскольку реальные формы людям предстоит выработать самим на пути к этой конечной цели. Такова эта конечная цель, что ничто не может быть навязано ей заранее. Поэтому К. Маркс, предвидел, что преобразование общества «в действительности весьма трудный и длительный процесс» [42, с. 136], проходящий, добавим, не иначе, как через переходные формы.
Третий момент состоит в том, что переходные формы непосредственных социалистических преобразований в их конкретности не могут быть предсказаны заранее: они продукт складывающихся обстоятельств и, следовательно, должны вытекать из этих обстоятельств и соответствовать их требованиям, никогда, при этом, не теряя из виду конечную цель.
Наконец, четвертый, момент затрагивает судьбу социалистической теории после Октября 1917 г. Он указывает на то, что она обретает конкретность только через практику становления социализма, совершенствуется, уточняется и исправляется на ее основе. Никак иначе. Умозрительным путем, она развиваться не может.
Понимая, что учебника по осуществлению непосредственных социалистических преобразований нет, Ленин ясно видел необходимость «выкарабкиваться самим» [20, с. 22]. Но как, в какую сторону выкарабкиваться, оставаясь на реалистичной почве? Ответ Ленина был в русле марксистской естественно-исторической традиции. «В процессе социалистического строительства, – указывал он, – как и во всем историческом творчестве, пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не „выдумывает“, не „создает“ из ничего» [17, с. 310]. Принципиальная установка, которой Ленин, в связи с этим руководствовался, заключалась в том, что «Всеми и всяческими экономически-переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в том надобность…» [20, c. 227—228] «Искать переходные меры, – писал он в этой связи, – задача очень трудная. Не удалось быстро и прямолинейно это сделать, мы духом не упадем, мы свое возьмем» [19, с. 72].



