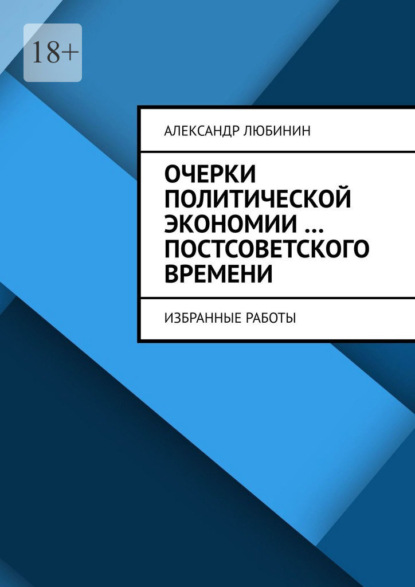
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
В том социализме, который был, всем, конечно, хотелось жить лучше. Но это казалось делом времени. В СССР не только партийно-идеологический аппарат, но и вся имеющаяся группа общественных наук не подвергала сомнению тот, казалось бы, эмпирический факт, что советское общество – это общество, если не во всем, то почти во всем – социалистическое. Начавшаяся создаваться в начале 50-х гг. политическая экономия социализма возникла из такого безоговорочного признания и исходила из него все годы советского периода. Эта позиция была общей для всех сформировавшихся позднее направлений в данной теоретической дисциплине, адресующейся именно к сложившейся в основном системе социалистического хозяйствования как своему объекту. «Основная трудность заключалась не в репрессивном режиме (это лишь внешний фактор), – отмечает в данной связи М. Воейков, – а в том, что сами ученые находились в ловушке сталинской методологии. То есть авторы считали и верили, что живут при социализме (с любыми эпитетами, не в этом дело) и пытались на основе марксистской методологии объяснить это общество. Последовательное уточнение какого-либо официального идеологического положения приводило, в конце концов, или к отрицанию социалистического характера общества, или к отрицанию соответствующего положения марксизму» [60, с.143].
В социальной жизни, как и в любой деятельности, не бывает так, чтобы высокий результат достигался без чувствительных потерь и немалых негативных следствий. Эпохальные достижениями СССР доказывали, как действенность социалистической организации жизни и силу вдохновляющего эту жизнь коммунистического идеала. Одновременно, в то же самое время, огромные жизненные трудности на пути к осуществлению социалистических задач не могли не порождать негативный общественный фон. До поры до времени, несмотря на мобилизационный (со многими административными ограничениями и бытовой неустроенностью) уклад жизни, точки социального напряжения купировались доминирующим позитивным общественным настроением, которые подпитывались ощущением страны, энергично двигающейся вперед. Казалось бы, невозможное стало возможным, высокая идея, несмотря на очевидную нерешенность многих вопросов, навсегда соединилась с энергией и политическим сознанием масс. Ведь в самое ответственное время: в довоенный период и в годы войны, а также в течение 15 лет послевоенного восстановления народного хозяйства, увенчавшихся атомным паритетом с Америкой и космическим полетом Юрия Гагарина, социализм убедительно доказывал свои созидательные возможности.
Вопросы эффективности экономики, НТП, стимулов к труду, развития потребительского сектора действительно требовали расширения и усиления коллективной и личной материальной мотивации, которую централизованное хозяйствование ограничивало, а рыночное – стимулировало. Увлеченность стран социалистического содружества реформами товарно-денежного свойства теоретически и практически была вполне закономерной. Все они без исключения имели национализированную экономику, подчиняющуюся народнохозяйственному плану. Гипотетически можно представить рыночно реформированную советскую экономику как продолжение и развитие принципов нэпа. Но в свое время подобное не случилось. Строительство социализма в отдельной стране встретилось с такими внешними угрозами, встречный ответ на которые потребовал длительного отказа от свободы оборота и саморегулирования. Естественноисторическая линия хозяйственного развития главным образом по острой необходимости, а не по чьей-то неразумной воле, была прервана той хозяйственной системой и соответствующей ей надстройкой, которая способствовала решению задач политического момента, поставившего вопрос о выживании страны. Произошло, даже не постепенное, а залповое забегание вперед, отрыв производственных отношений от производительных сил, оказавшийся не временным, а устойчивым явлением.
Взбудораженный рыночными страстями научный мир и общественное мнение стран социалистического сектора разделилось на товарников и антитоварников. На научной конференция 27—29 января 1971 г. «Марксистско-ленинская теория развитой социалистической экономики» в качестве вершины теоретической мысли был поставлен вопрос о социализме как самостоятельном способе производства с органически присущими ему товарными отношениями. Все это выставлялось в противовес господствующей официальной точке зрения, связывающей действующую, по сути, антитоварную социально-экономическую структуру в теории и на практике с коммунизмом как его первой фазой. Утверждалось, что будущего у этой структуры нет – это тупик исторической эволюции, поскольку она не стимулирует экономического и духовного развития общества из-за отсутствия институтов политической демократии [См.:5, с.126]. Неспособность понять, что органическая необходимость товарных отношений вырастает из незрелого, переходного состояния социализма в СССР, а не из отсутствия теоретического признания его самостоятельным способом производства, привела к советской форме ревизии марксизма под флагом его творческого развития.
Социализм невозможен без государственной формы общественной собственности, без того, чтобы государство не осуществляло прямой организации решающих хозяйственных процессов. Без этой деятельности государства от первого лица движение общества к социальной справедливости пустой звук. Но тут существенно важна мера, которая определяется стадией зрелости общества, которое хочет быть социалистическим. Полный, завершенный, социализм требует всеобщих непосредственно-общественных отношений. Но это теория. На практике такого социализма еще не было. Был формальный, переходный, неполный социализм, требующий, наряду с безусловной планомерностью реальных автономных товарно-денежных отношений на базе, в том числе, негосударственной собственности. Концепция сталинского социализма этого не допускала: она исходила из необходимости так или иначе охватывать централизованным государственным регулированием всех субъектов хозяйствования.
Исчерпание возможностей мобилизационного уклада
Строительство социализма в отдельной стране и первоначальная экономическая слабость привели СССР к построению мобилизационной системы общественных отношений, а экономическое соревнование двух разных миров в купе с потребительскими склонностями на фоне буржуазного изобилия к потере авторитета плановой системой. Послевоенный советский социализм стал чувственно слишком груб для изменившегося с течением времени самоощущения людей в советском обществе. Длительное время, разрешая жизненный конфликт двух моральных систем «мое» и «наше» в пользу «наше», советский человек постепенно начал терять этот важнейший для социализма жизненный ориентир. Он начинал чувствовать, что, несмотря на все жертвы и самоотверженность, ожидаемое благополучие и обещанное царство свободы – коммунизм недостижимы. Идеал перестал подпитываться своим позитивным содержанием прекрасного будущего, его вытеснял негативный потенциал окружающей реальности. «Наше» не стало также и «моим». Советскому человеку так и не объяснили, что социализм еще не есть свобода, а лишь путь к освобождению, с траектории которого нельзя сходить. Слушая перестроечные речи о благе общечеловеческих нравственных и либеральных ценностях, которые должны заместить социалистический идеал, он, недовольный своей жизнью, и не знающий по собственному опыту капиталистическую жизнь даже поверхностно, еще не мог понять, что стоящие на трибуне новые люди могут казаться внешне хорошими, болеющими за народ либералами, но хорошего либерализма уже нет, он весь остался в прошлом, на заре капитализма, став силой враждебной историческому прогрессу. В отличие от 1917 года массовое общественное сознание было захвачено мыслью не о том, что и как будет, а мыслью о том, чтобы не было так, как есть.
С победой социалистической революции в России был запущен процесс, определяемый противоречием между конечной целью революции – построением общества социального равенства, и необходимыми социальными и научно-техническими ресурсами для этого. Был исторически выстраданный предшествующей философской и экономической научной мыслью социалистический идеал, и был в распоряжении большевиков человеческий ресурс, который, при условии своего адекватного стоящей революционной задаче развития, вполне соответствовал этой высокой цели. Оба полюса в их диалектической связке были материальной силой, которая двигала и разрешала это противоречие в интересах страны, обеспечивая ее экономическое и оборонное величие, культурный расцвет. На этом рывке к социализму ресурс веры и надежды тратился под влиянием больших трудностей и бытовых лишений, которые испытывал народ. Но он и пополнялся воодушевляющими большими и малыми победами, сохраняя в сознании людей социалистический идеал как цель. В какой-то момент, с начала 60-х гг., а с 70-х в особенности, уже совсем не в той степени, в какой расходовался и иссякал.
Наш, рожденный практикой мобилизации социализм, проигрывал в сравнении с внешней атмосферой окружающего капиталистического мира. Запад своим существованием приносил дух, основанный на культе потребления, как смысле жизни, манил безграничной индивидуальной свободой, красивой и богатой жизнью. Распространение такого мироощущения разлагающе действовало на сознание людей, ограниченных во всем этом существующей системой, правилами и традициями каждодневной жизни, естественно, не исключая членов КПСС. Страна начала скользить от духовного идеала добра и справедливого мира, которым жила прежде, к поклонению материальным благам и далее к желанию прибыли. Ощутимо стал проявляться комплекс неполноценности советского человека, потеря им самоуважения. Запрет свободного выезда за границу помимо недоумения и раздражения, обоснованной черной зависти, приводил к незнанию всей полноты капиталистической жизни, ее реальной сложности, а не только фасадного блеска. Растиражированных «Хижины дяди Тома» и «Пятнадцатилетнего капитана», включенных в школьные учебники, для такого критического знания было, естественно, недостаточно. Отсюда сомнения населения в верности избранного политического пути, претензии к власти и КПСС, любовь к острым политическим анекдотам. Не выдерживая конкуренции прямым опытом, социалистический идеал умирал, поскольку от него оставалась идеологическая форма, не имеющая под собой устойчивого материального основания. На смену ему пришел идеал рыночной экономики, который превратился в культ, исключающий разумное к себе отношение.
Жизнь рождала свою моду, свой стиль, свою атмосферу. Запад привносил совсем другой дух, своим существованием нес другую правду жизни. Безграничной индивидуальной свободы, предприимчивости. Рискованного успеха, красивой и богатой жизни. Акцент на потребительстве как смысле жизни. Манящих возможностях. Распространение такого мироощущения разлагающе действовало на сознание людей, ограниченных во всем этом существующей системой, не писанными правилами и традициями каждодневной жизни.
Власть испугалась очевидной неидеальности социалистического идеала. Остановившись в формировании материальных условий его продвижения при ослабевшем влиянии политических факторов, она оказалась в тупике. Уже к середине 1970-х гг. КПСС превратилась из единой «направляющей и руководящей силы» в рыхлую, целиком зависимую от партаппарата структуру. В конце концов, под влиянием фактически антисоветских сил, это привело к отмене 6-й статьи Конституции СССР и далее к поражению коммунистического проекта в стране и в мире. Внутриполитические факторы стали сказываться все более деструктивно, возникла идейная слабость и вялость власти, которую с приходом Ю. Андропова пытались усилить дисциплинарно воспитательными и административными методами. В этих сложных условиях партийное руководство страны стало склоняться к восприятию либеральной идеи сглаживания, преодоления размежевания двух противоборствующих мировых социально-экономических систем, их конвергенции и сближения государственных моделей капитализма и социализма. Возникла надежда на примирение в рамках мирного существования, благодаря чему СССР, как предполагалось, добьется нового экономического, научно-технического и социального прогресса. Это был первый случай, когда высшие представители советской власти теоретически стали допускать, что социализм может «подвинуться» в своем непримиримом идеологическом противостоянии с Западом, после чего отношения приобретут равноправный, партнерский характер. М. Горбачев не был первым на этом скользком пути, в конце которого неизбежным было разочарование и потеря страны. Жизнь показала, что мы не только не знали общества, в котором живем, исходили из ложного теоретического понимания его реального положения, но также лишь вчерне представляли себе и другую сторону – глубинную природу совсем не ангельского послевоенного капитализма, рассчитывая, что практическая конвергенция разных социальных систем успокоит и примирит весь неспокойный мир.
Под патронатом Ю. Андропова высшее советское руководство в интересах будущей широкой рыночной трансформации экономики и общества негласно, в стране и за рубежом, начало подготовку кадров будущих реформаторов из молодых выпускников советских вузов, в первую очередь московских и ленинградских. Существующие научные и управленческие кадры не без оснований считались не способными на крутое рыночное переустройство экономики и общества, в объективной необходимости которого сомнений уже не оставалось. Знали бы советские руководители, что своими «заботливыми» действиями по подготовке грядущей, плохо представляемой и потому идеализированной в своих прокламируемых преимуществах, рыночной реформы, главными консультантами которой стали западные специалисты, разгоняют мощную антисоветскую волну, накрывшую СССР, а затем своим безрассудством и постсоветскую Россию. Кадры, которые готовила, и на которые надеялась власть, стали ее главными ликвидаторами.
Безучастное отношение советских людей с конца 80-х гг. к своему будущему, без социалистической перспективы, складывалось на протяжении всей советской истории: день за днем, событие за событием. Во все времена существования СССР действовали объективные внутренние силы (привносимые извне антикоммунистические идеи и инициированные оттуда антисоветские действия выведем пока за скобки). Эти силы были обратной стороной напряженнейших усилий по строительству и защите социализма в отдельно взятой стране. Они действовали как своеобразная плата за достигнутый вопреки всему результат и упрямо, негативно для коммунистической идеи, давили на общественное сознание. Коренная и исчерпывающая причина существования этих сил решающим образом не в обстоятельствах субъективного толка, не в якобы дурных качествах авторитарных вождей, не в пагубной кадровой политике, не в афганской войне или в непомерных военных расходах, а в базовых, формирующих общественную атмосферу, объективных жизненных обстоятельствах, складывающихся на всем протяжении существования СССР.
Экономические проблемы позднего СССР не были фатальными для страны. Жизнь любого государства всегда состоит из разрешения возникающих проблем и преодоления неизбежных трудностей. По-другому не бывает, это нормальное явление, и социалистическое государство здесь не исключение. Весь вопрос в компетентности принимаемых решений и в их своевременности. В 90-е гг. ситуация была много хуже, чем в конце 80-х гг. Но Россия выстояла и не распалась. СССР мог бы не включаться в бессмысленную, по большому счету, борьбу за соперничество в удовлетворении «постоянно растущих духовных и материальных потребностей». Социальными и духовными целями социализма не является культ растущего потребления всего без разбору, излишнего комфорта и безграничных удовольствий как единственного выражения личной успешности. Высшими альтернативными целями СССР должно было бы стать то, что базируется на преимуществе социализма ввиду централизации средств и возможности их планового целевого использования. Имея такой экономический рычаг, на первый план должна была выступить задача достижения лучшего в мире здравоохранения с самой высокой продолжительностью жизни, лучшего в мире образования и самой здоровой экологией. Неуклонное и успешное продвижение в этих вопросах обеспечило бы высокий авторитет страны и социализма в мире независимо от степени насыщенности потребительского рынка. Последний, конечно, важен, но только не в качестве ключевой проблемы, к которой, в конце концов, практически целиком сдвинулось общественное внимание в стране.
Растерянность перед необходимостью хозяйственной реформы
Для того, чтобы прекратить хозяйственный режим нэпа и начать строить плановую экономику нужно была только политическая воля, направляемая пониманием исторической важности этого события. А вот для того, чтобы начать экономические реформы с рыночной «начинкой» одного желания совершенно недостаточно. Тем более, что требовалась реформа, которая является не продуктом эволюционного, говоря марксистским языком, естественноисторического развития, а принудительное и крутое изменение всей прежней практики. Необходимость этих изменений нарастала с конца 50-х гг. и привела в 60-х гг. к реформе Косыгина-Либермана, которая в основном касалась нижнего звена – предприятий, а не всей хозяйственной структуры, остающейся централизованно управляемой. Гипотетически можно предположить, что ее продолжение привело бы на базе учета нового опыта к нужным изменениям. Но события 1968 г. в Чехословакии остудили надежды на благотворность рыночных реформ, которые в этой стране стали способом демонтажа социализма, толкуемого по-советски.
Хозяйственная система СССР, возвысившая страну, позволившая сохранить ее в годы Великой Отечественной войны и быстро выйти из послевоенной разрухи, была во многом адекватна требованиям своего времени, которые можно было обозначить как «диктатура экономического развития». Не нужно забывать, что без экономической победы не было бы и военной победы над фашизмом. Всей этой героической и великой истории, проходящей под идейным знаменем марксистского социализма, Китай не имел. В экономическом плане, начав в 70-х гг. рыночные реформы, КНР также фактически подчинила себя «диктатуре экономического развития». Но сделано это было не в форме прямых распоряжений центральной власти, как подобное, помимо прочего, вынужден был делать СССР, а в форме императивных требований рынка, дополненных его государственным регулированием [См.: 51]. Но для этого нужны были внутренние и внешние условия, которые в отношении СССР отсутствовали.
Концепция советского социализма – возможность его осуществления в отдельно взятой стране, содержала в себе капитальное и опасное противоречие, разрешить которое СССР оказался не в состоянии. Решая задачу надежного обеспечения независимости страны, Советский Союз не смог сделать конкурентноспособным свой общественно-политический строй в условиях жесткой военной, экономической и идеологической конкуренции двух мировых систем. Это противоречие в полной мере созрело к середине 70-х годов, став через небольшое время причиной его гибели. То, что необходимо было делать в условиях существующего в России хозяйственного уклада и сжатых границах отпущенного исторического времени для обеспечения суверенитета страны, методы, которыми это могло быть достигнуто, по своей сути не могли быть вполне социалистическими, ибо требовали активного принуждения населения, его особой полувоенной организации, пусть и сознательной, массовой, вдохновенной, но жертвенности. Это не могло быть устойчивой практикой социализма, как это допускала его сталинская трактовка. Социализм, который еще предстояло достроить, по определению не должен лишать людей ни свободы выбора, ни возможности самовыражения, если претензии на это не носят асоциального характера и не задевают общественную нравственность. Командовать в этой сфере, значит, опускать планку самореализации индивида ниже того уровня, которого она достигает при капитализме. Все это должно было быть сохранено и переведено в реальную плоскость в системе так или иначе планового производства и распределения.
Успехи в социально-экономическом развитии и особенно победа в Великой Отечественной войне, пусть и в значительно ослабленном и измененном виде закрепили в общественном сознании понимание социализма как социально-политического стеснения, как подчинения себя интересам государства, власти. В итоге при Н. Хрущеве начали угасать последние искренние проявления советского патриотизма, люди начали терять жизненные ориентиры.
В историческом итоге советский социализм ушел, сохранив Великую Россию, закрыв ее как щитом в сложнейшее для нее, суровое время борьбы за существование, реализацией социалистического (антикапиталистического) проекта. Но он же, в конце концов, и заплатил этим проектом, а с ним и своим существованием, за неспособность разрешить указанное противоречие: В советский период огромные в целом цивилизационные достижения России не были гармонизированы с социальными достижениями, формальная возможность которых была создана победой Октябрьской революции. В этих обстоятельствах люди, психологически уставшие от постоянных, теперь уже ощутимо избыточных мер ограничения их жизни, стали ощущать, что социалистический идеал не стал ближе. Он, напротив, все время отдаляется, и реальная практика не подтверждает декларируемых социальных ценностей. С 60-х гг. началось постепенное, но неуклонное, изменение общественного самочувствия, которое сопровождалось критическим накоплением мировоззренческого негатива. К концу 80-х гг. социалистический идеал стал идеологическим символом, теряющим органическую связь с общественными ожиданиями.
При всей критичности в оценке экономической теории и практики советского социализма, не следует относиться к ней огульно нигилистически: эта практика должна быть исторически осмыслена и теоретически преодолена, а не механически отброшена. Особенно учитывая, что идеи и практика обогащения, как смысл жизни, доказали свою ограниченность, а идеи социальной справедливости и равенства переживают заметный ренессанс.
Библиографический список
1. Аннинский Л. Русские плюс… М., Алгоритм, 2003 г., с. 559.
2. Аннинский Л. На ветру и в прибежище. – URL.: http://almanah-dialog.ru/archiv/ archive_3—41/di 1
3. Голанд Ю, Некипелов А. «Косыгинская реформа: упущенный шанс или мираж». —Российский экономический журнал. – 2010. – №6.
4. Государственная собственность в экономике России и других стран. Вопросы истории и теории / Под ред. В. Н. Черковца. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 593 с.
5. Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. Судьба политической экономии и ее советского классика / Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 453 с.
6. Дэн Сяопин Основные вопросы современного Китая. – М.: Политиздат, 1988. – 259 с.
7. Киселев В. П. Об эволюции модели социализма // Вопросы философии. – 1989. – №10. – С. 19—34.
8. Кожинов В. Россия. Век ХХ-й (1901—1939). М., «Алгоритм». 1999. – 560 с.].
9. Корнаи Я. Дефицит. – М.: Изд-во Наука, 1990. – 607 с.
10. Кронрод Я. А. Очерки социально-экономического развития ХХ века. – М.: Наука, 1992.
11. Куликов В. О переходных формах в условиях капитализма//Вестник Московского университета. Серия Y11. Экономика. -1974.– №5.
12. Куликов В. Теоретические проблемы перехода к социализму. В кн. Проблемы дальнейшего развития теории и методологии политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – Издательство МГУ,1975.
13. Куликов В. Становление социалистических производственных отношений. – М.: Издательство МГУ, 1978.
14. Куликов В. «Цаголовская школа» и ее нынешнее звучание» //Российский экономический журнал. – 2004. – №4.
15. Курс политической экономии. В 2-х т. Т. 11. Социализм. Под ред. Н. А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов и фак. Изд. 3-е, перераб, и доп. – М.: «Экономика», 1974.
16. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 27
17. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 33
18. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 41
19. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 43
20. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 44
21. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 45
22. Лифшиц М А. Varia. – М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2010. —172 с.
23. Лифшиц М А. Чего не надо бояться. // Российский экономический журнал. – 2017. – №1.
24. Любинин А. Б. Классический социализм и практика социализма: непреодоленная сложность кажущейся простоты // Российский экономический журнал. – 2011. – №1. – С. 36—61.



