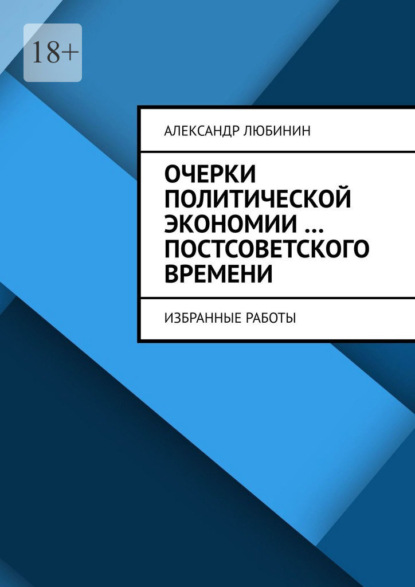
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
25. Любинин А. Б. Снова к проблеме генезиса и предметного содержания «экономикс» // Российский экономический журнал. – 2016. – №2. – С. 35—66.
26. Любинин А. Б. Октябрь -17, социалистический проект и суверенитет России // Российский экономический журнал. – 2017. – №1. – С. 10—31.
27. Любинин А. Б. Спасительный «омут» индустриализации: невыученный урок 1930-х // Российский экономический журнал. – 2017. – №4. – С. 4—12.
28. Любинин А. Б. Ключевые идеи социалистического проекта и противоречия их воплощения в советской истории. Оценки 100 лет спустя (размышления по поводу двух книг, выпущенных к 100-летию Октябрьской революции). Начало // Российский экономический журнал. – 2018. – №1. – С. 108—128.
29. Любинин А. Б. Ключевые идеи социалистического проекта и противоречии их воплощения в советской истории. Оценки 100 лет спустя (размышления по поводу двух книг, выпущенных к 100-летию Октябрьской революции). Окончание // Российский экономический журнал. – 2018. – №2. – С. 88—103.
30. Любинин А. Б. О самобытности социализма современного Китая // Российский экономический журнал. – 2019. – №3. – С. 75—90.
31. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 3
32. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 12
33. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 16.
34. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 19.
35. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 22.
36. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 23.
37. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 29.
38. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 31.
39. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 33
40. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 35.
41. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 39
42. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 42
43. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 45
44. Мелентьев А. Ю. Тезис о «двух Лениных»: в чем смысл? // Экономические науки. – 1989. – 31. – С. 55—74.
45. Мелентьев А. Ю. Несколько соображений к статье В. Черковца о «Курсе политической экономии»// Российский экономический журнал. – 1994. – №11.
46. От Великого Октября к советскому социализму. Взгляд 100 лет спустя / Ред. Кол. П. П. Опрышко, А. П. Поляков, М. В. Романенко. – М.: Мир философии, 2017. – 495 с.
47. Прудникова Е. А. 1953. Роковой год советской истории. – М.: Яуза. 2008.– с. 354 Журнал 56
48. Розенберг Д. И. К вопросу о классификации экономических наук //Вестник Коммунистической Академии. – 1933. – №5—6.
49. Сталин И. В. Сочинения. Государственное издательство политической литературы, 1952. – Т. 7.
50. Сталин И. В. Сочинения. Государственное издательство политической литературы, 1952. – Т. 13.
51. Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин. Новая эпоха. – Москва: Эксмо, 2018. – 384 с.
52. Товарно-денежные отношения в системе планомерно организованного социалистического производства. Издательство Московского университета. 1971. – 373 с.
53. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Москва. Книга. 1990. Т. 2. – 342 с.
54. Уткин А. Россия над бездной (1918 г. – декабрь 1941 г. Смоленск: Русич, 2000, с. 21.
55. Фролов А. К. Последняя судорога самодержавно-помещичьей системы (преобразования П. А. Столыпина через призму ленинских оценок) // Российский экономический журнал. – 2012. – №. 3. – С. 3—15.
56. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М. Новости. 1992. С. 15.
57. Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. – 1988. – №12. —1988—№12. – С. 40—48; 1989. – №1.; 1989. – №2. – С.53—62.
58. Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. —1989. – №1.
59. Швецов А. «Информационное общество»: теория и практика становления в мире и в России. Статья 2. Всеобщая информатизация как модернизационный проект: по плечу ли она современной России? //Российский экономический журнал. – 2010. №5. С. 17
60. Экономическая теория: феномен Я. А. Кронрода: к 100-летию со дня рождения / сост. Т. Е. Кузнецова. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 280 с., ил.
Очерк 3. Из истории экономической теории социализма: феномен «ловушки» Сталина
В свое время политическая экономия социализма была важнейшей составной частью базового теоретико-идеологического комплекса СССР. Его, бесспорно, идеологической частью, в первую очередь. В истории формирования советской экономической науки о социализме контролируемая властью взаимосвязь идеологии и приемлемой теории очень многое объясняет, задавая твердые рамки ее научного содержания. При всем, однако, преобладающем идеологическом акценте это была экономическая теория, представленная разными (в пределах общей социалистической идеи) методологическими школами, стремящаяся, в конечном итоге, быть выразителем и направителем полезной хозяйственной практики. Прежде всего, ориентиром для государственного экономического управления и тех реформ, которых, со все более очевидной настоятельностью, требовала советская хозяйственная практика. Наиболее отчетливо это видно на примере настойчивых разработок вопросов реального централизма и эффективной планомерности в сочетании с экономической самостоятельностью хозяйственных звеньев, в активном внимании к проблемам стимулирования труда, цен, потребностей, интересов. Так что, несмотря на существующее мнение, далеко не все в экономической теории социализма следует относить к апологетике. Не нужно забывать и о том, что политэкономия была основой существования системы экономических наук о социализме25, которая включала в себя многочисленные конкретно-экономические дисциплины, начавшие формироваться с конца 30-х гг., а в 60-е гг. – развиваться особенно энергично, заняв заметное место в тематике научных учреждений и в вузовских учебных планах.
Сегодня огромные интеллектуальные усилия, по крайней мере, двух, безусловно хорошо образованных, поколений (условно – сталинское и после сталинское) отечественных политэкономов кажутся потраченными совершенно зря, а стоящие за ними непростые судьбы – прожитыми напрасно. Но, ровно по той же причине, по которой закончившееся советское семидесятилетие не вычеркнуть из истории российской государственности и жизни народов СССР, кому бы и как бы это не казалось оправданным, ровно по этой же причине советская политическая экономия социализма – особый вариант продолжения и, в итоге, наследие российской экономической мысли, а не затянувшийся на десятилетия пробел в ее развитии.
Кроме того, сколь бы не были проблематичны и казались призрачными, надежды на грядущую социалистическую перспективу мирового развития, тем более по советской модели, формирование предпосылок социализма и ряда присущих в развернутом виде только ему жизненных явлений социализации общественного устройства неуклонно и неустранимо продолжается в современном капиталистическом обществе. Объективность этого процесса служит отправной точкой для понимания того, что вопрос не в том, жива ли после крушения СССР и социалистического лагеря идея справедливого бесклассового общества, а в том, как, какими неизведанными пока путями, через какие новые формы противоречий исторического развития современного и последующих обществ, под воздействием каких массовых движущих социальных сил она будет становиться все более насущной, завоевывая умы и сердца миллионов. Сейчас уже очевидно, что капитализм, даже в его современном виде, не может обеспечить движение общества по пути социальной справедливости и равенства, даже победить бедность он не в состоянии.
Всему свое время. Неуместно, и даже опасно, бездумно его торопить, как бессмысленно, пуская в ход обе руки, со всей силой тащить цветок вверх за его стебель, понуждая расти быстрее. Марксистский, много повидавший на своем веку, философ М. Лившиц рекомендовал отучать себя «от преувеличенной веры в нашу повседневную субъективную активность» [16, с. 100]. «Бывают такие положения, – втолковывал он, – когда подобно первоначальным христианам, нужно ждать наступления критического часа». [16, с. 100]. Ждать. Не прекращая, однако, теоретическую работу.
Период социализма – выдающийся, хотя и горький, по переживаниям одних, – и закономерно не удавшийся, тупиковый, по мысли других, этап мирового общественного развития. Но этап поучительный для всех, желающих учиться не только на собственных ошибках. При этом те, кто в дальнейшем будет изучать этот вопрос, обретут, надо думать, устойчивую объективность взгляда, психологически трудно достижимую сегодня, как сторонниками социализма, так и его оппонентами.
Ныне вполне сформировались обстоятельства для теоретической оценки и осмысления, сделанного политэкономами (с участием представителей других обществоведческих наук) в экономической теории социализма, уяснения причин, в силу которых было сделано так, а не иначе. А также понять, что и почему вообще сделано не было. Использовать эти обстоятельства надо бы сейчас, пока еще не перезрели и не погашены беспощадным временем подлинные социальные, политические и духовные ощущения советской эпохи.
Во-первых, постсоветское время, агрессивно вступившее в свои права, в качестве полного отрицания и антипода времени советского, уже целиком раскрыло себя в своих основных сущностных чертах и продолжает усиливать наглядные проявления своего далекого от справедливости социального смысла. С позиций научного анализа вполне определившийся политико-экономический итог переживаемого времени является важной сравнительной базой для оценки обоснованности теоретических идей советской политической экономии, в частности в вопросе преимуществ социализма и его противоречий. Эту же фоновую роль играют и процессы, развивающиеся в современном капиталистическом мире. Кроме того, опыт функционирования советской плановой системы был бы полезен постсоветской России в решении назревших (и давно перезревших) структурных экономических задач, тем более что правовое основание этой работы – закон о стратегическом планировании – существует. Нельзя, правда не заметить, что, судя по полному игнорированию этого закона существующей системой государственного социально-экономического управления, его инициаторы и разработчики, вкупе с законодателями, сами не знают, зачем они приняли этот закон.
Во-вторых, появились личные, достаточно подробные, и надо сказать вполне откровенные, оценки непосредственных участников разработки политэкономии социализма. Такие свидетельства всегда наиболее документально обоснованы и эмоционально точны, хотя, конечно, взгляд на то или иное событие изнутри может отличаться от взгляда снаружи, особенно учитывая, что видение былой ситуации дается по прошествии некоторого времени, когда по объективным и субъективным причинам «смотровая площадка» для свидетельских оценок стала иной. В этом отношении крайне важно то, что активные участники научной жизни написали о том, в какой острой идейной борьбе, в том числе в самой политэкономической среде, рождалась новая система экономических знаний, какое влияние на этот процесс оказывала партийно-государственная власть.
Прежде всего, в данной связи необходимо выделить две книги «Экономическая теория. Феномен Кронрода. К 100-летию со дня рождения». См.: [36] и «Судьбы политической экономии (о школе Н. А. Цаголова)». Cм.: [5]. Книги подготовлены известными политэкономами из ближайшего к центральным фигурантам описываемых событий окружения. Самое главное в них – процесс рождения во времени основных идей новой, впервые создаваемой политэкономии. В том числе сопутствующая этому процессу история многолетнего, яростного по своему эмоциональному накалу, непримиримого теоретико-методологического столкновения двух идейных лидеров, чей научный и человеческий авторитет был безусловен, делая их организационным центром формирования влиятельных научных направлений.
Борьба эта была не всегда джентльменской, а их территорией – не только академические площадки, но и кабинеты высоких начальников. Ученые тоже люди, и они, в свою очередь, были не свободны от влияния нравов своего времени. По свидетельствам биографов, Я. Кронрод считал, например, что «… в идейно-теоретической борьбе хороши многие, не всегда оправданные средства» [36, с. 257]. Так, что, когда его противники, также, не стесняясь, прибегали к подобного рода средствам, это было, конечно, крайне неприятно и тяжело переживалось, но моральная сомнительность таких действий была обоюдной и вполне себе в духе своего времени. «К сожалению, оба дискутанта (Я. Кронрод и Н. Цаголов – прим. А.Л.) страдали одним и тем же пороком, – констатирует С. Дзарасов, – и наносили друг другу тяжелые раны» [5, с. 238]. В сфере советской экономической науки (и не только экономической) «республика ученых» с единым «законодательством», о чем когда-то мечтал Кант, так и не сложилась: возникавшие, порой чисто научные конфликты, чаще всего политизировались, и разрешались на пути «уничтожения» оппонентов.
Так уж получилось, что магистральные логические линии в теории и методологии политэкономии социализма прочерчивались отделом политэкономии ИЭ АН СССР и кафедрой политэкономии экономического факультета МГУ, хотя, конечно, были и другие, заявившие о себе, авторитетные научные коллективы. Все они имели единую опорную позицию, находящую отражение в их теоретических построениях: определение И. В. Сталина о том, что в 1936 г. в СССР победил социализм. Практически все в движении теоретической мысли и научных спорах советского времени определялось данным базовым обстоятельством, которое по своему реальному смыслу и методологическому значению стало настоящей неосознаваемой теоретико-методологической «ловушкой», избежать влияния которой не удалось никому. Реагируя на видимые несоответствия советской социально-экономической практики классическим марксистским представлениям о социализме, часть политэкономов уходила в критику марксизма в пользу новаторских, по сути немарксистских, трактовок социализма вообще и советского социализма, в частности; другая часть – искала способы примирения, состыковки советской действительности с марксистской классикой на путях совершенствования этой действительности, твердо исходя из того, что СССР социалистическая страна.
Сталин, конечно, несет личную ответственность за характеристику советского социализма, введенную им в политический и научный оборот. Он ведь был не только партийно-государственным вождем, но и сам поставил себя в положение непререкаемого лидера рождающейся теории советского обществоведения. Данная им трактовка социализма без преувеличения предопределила не простую судьбу советской политической экономии, положив авторитетом вождя в ее теоретическое основание исторически и логически не точно квалифицированный объект, вызвав тем самым неизбежно внутренне противоречивую реакцию на него. Это стало причиной действительно плохого понимания и властью, и научной общественностью того реального этапа социально-экономического развития, который в действительности, а не в словесных политических определениях, переживала страна. При таком положении выстроить систему эффективного управления народным хозяйством и позитивно влиять на общественные настроения было невозможно. Со всеми вырастающими из подобного состояния постоянно множащимися социально-экономическими проблемами.
Почему сталинское определение социализма появилось и было искренне принято, в том числе по теоретическим соображениям, научной общественностью; в какой историко-методологической плоскости проблема трактовки советского социализма могла бы быть адекватно разрешена – предмет настоящего очерка.
За время довоенных пятилеток облик СССР и его экономической потенциал изменился коренным образом. Страна восстановилась после страшной разрухи и стала пятой экономикой мира, что было выдающимся достижением. Возникла качественно новая социально-политическая и хозяйственная обстановка, которая закономерно требовала своего терминологического обозначения. Поиск подходящей формулы для определения этапа, достигнутого страной в результате целенаправленных действий большевистской власти по построению социализма в отдельно взятой стране, начался еще в 1934 г. 26 ноября 1936 г. И. В. Сталин, выступая со статьей в «Правде», представил окончательный результат этой работы, указав, что в СССР осуществлена в основном первая фаза коммунизма – социализм. Так появилась и сразу была канонизирована формула, сочетающая в себе констатацию завершения переходного периода и общее определение достигнутого социально-экономического этапа – «в основном первая фаза коммунизма – социализм».
Эта формула, которая, как само собой разумеющийся непреложный факт, имплицитно предполагала, что в Советском союзе социализм построен в соответствии с классическими марксистскими представлениями, и есть определившая в последующем драму политэкономии социализма ловушка, в которую ей суждено было волей-неволей угодить.
Определение И. В. Сталина вводило в научный оборот реальный социальный объект для политэкономии социализма. В силу этого советская экономическая наука получила возможность изучать практически реальное, а не только теоретически должное, судить о социализме по имеющемуся уже опыту. При этом, если ранее советская идеология приравнивала себя к классической марксистской идеологии, то теперь марксистская экономическая теория о социализме (точнее ряд отдельных теоретических положений) начала отождествляться с теорией социализма советского, в котором стали видеть воплощение основных идей марксизма, либо, наоборот, отрицание этих идей, теми, кто с советской моделью был, так или иначе, не согласен и выступал ее критиком.
Поощряемые партийно-государственной властью и, выполняя ее социальный заказ, политэкономы перешли от исследования проблем переходного периода – основной темы до начала Великой Отечественной войны, – к разработке экономической теории социализма. У практического социализма появились два, казалось бы, вполне закономерных исторически и логически, имеющих свои особенности, этапа: переходный период к социализму и сам рукотворный социализм. Результатом развития советской научной мысли стало появление в 1951 году макета первого учебника по политической экономии социализма.
Но, как в довоенную эпоху, так и позже, вне теоретического внимания оказывалось то обстоятельство, что в качестве исчерпывающего доказательства вступления СССР в эпоху социализма И. В. Сталин сослался на «превращение социалистической системы в единственную систему народного хозяйства, вытеснение капиталистических элементов из всех сфер народного хозяйства» [31, с. 333]. Вопрос, таким образом, совершенно определенно был сведен к тому, что К. Маркс называл негативным отрицанием капитализма, еще не обеспечивающим в основном полноту содержания социализма. Негативное отрицание дает лишь некоторые основы социализма, но не свидетельствует о победе социализма в основном, что является характеристикой более зрелого общества. В понимании социализма этого методологического порока, который постоянно давал о себе знать, понуждая к различного рода теоретическим оговоркам, не сумел избежать никто.
Для сталинского времени неразличение указанных деталей, конечно, объяснимо, хотя теоретическим пробелом такое положение не перестает быть. Но и впоследствии данный вопрос, если и поднимался, то должной научной реакции не вызывал. Заявленный во второй половине 30-х гг. практический социализм на предмет полного соответствия его содержания марксистской классике начал рассматриваться только в 70-е гг., в то время как линия такого, в основном критического, рассмотрения на Западе, в том числе в марксистской среде, сформировалась много раньше.
Вся система взаимосвязанных представлений практического социализма о собственности, обобществлении производства, экономической роли государства методологически рождена пониманием социализма лишь как отрицания капитализма, как строя, существующего в виде его антипода. Между тем в систему критериев, устанавливающих победу социализма в СССР, не вошли основополагающие положения из марксистской классики о положительном упразднении капитализма, означающем создание более совершенных материальных и духовных условий жизни людей, чем те, которые может обеспечить капитализм. См.: [24, с. 117, 127, 131, 169]. В итоге образовался разрыв между диалектическим смыслом отрицания капитализма и победы социализма, предполагающим отрицание отрицания, которое представлено в классическом социализме, и метафизическим, односторонним истолкованием этого вопроса в сложившейся теории практического социализма. В итоге феномен «ловушки Сталина», помимо прочего, сделал неизбежным появление не только в мировой, но и в отечественной теоретической мысли антимарксистского и антисоветского тренда.
Негативное отрицание капитализма происходит быстрее, чем могут быть созданы условия для положительного упразднения капитализма. В этом случае необходима лишь политическая власть и воля, соединенные со способностью создавать соответствующие институты, обеспечивающие проведение национализации и формальное обобществление: создание системы государственного экономического управления (госплан, госснаб, министерства, главки и т. п.). Этим, конечно, капитализм отрицается, но социалистического общества «в основном», во всех его необходимых, пусть и не вполне развитых, проявлениях, от этого не возникает. Создаются лишь его более или менее зрелые «основы».
Понимание советского социализма, как уже построенного в основном, появившееся в довоенный период, это скачок мысли, «перепрыгнувшей» через отсутствие собственной адекватной социализму материально-технической базы. И, что не менее важно, отсутствие требуемого субъекта новых общественных отношений, качеств личности, которая нужна для демократических форм социализма, прежде всего предполагающих развитую и политически осмысленную способность к самоорганизации и самовыражению. Социальной зрелости того исторического типа личности, которая сложными обстоятельствами своей жизни была вытеснена в массовое движение за завоевание политической власти и ее вооруженное удержание, а затем тяжелейшим трудом и материальными лишениями обеспечила экономический подъем страны, «завоеванной у богатых для бедных» (Ленин), было совершенно недостаточно для провозглашенного социализма в основном. Не сложились еще для этого приемлемые возможности качественного личностного и коллективного роста, и не прошло достаточно времени, чтобы такое, глубоко демократически ориентированное общество, сформировалось, тем более, когда речь идет о социальных процессах в бедной аграрно-промышленной стране.
Такая личность в массовом масштабе, не исключая научно-техническую и особенно творческую интеллигенцию с неизбежно присущими ей устойчивыми мелкобуржуазными ориентирами и взглядами, не появилась даже на протяжении всей послевоенной истории СССР. Творческая интеллигенция всегда оставалась недовольна сравнением материальных результатов оценки своего таланта, художественного вклада и популярности с западными образцами. Она была склонна видеть в этом несвоевременность и отсталость советского общественного строя, стремящегося выдерживать принцип равных возможностей. Исключения, которые есть всегда и в любом деле – не в счет.
Сложившееся в силу указанных выше причин массовое коллективное бессознательное объясняет, почему диссидентские требования индивидуальных свобод и расширения политических прав не находили заметной сочувственной поддержки в советском обществе, так же, как и сильный акцент на политических мотивах в ряде суждений представителей политэкономии. Данное обстоятельство чаще всего не принимается во внимание, что делает не понятной ментальность людей советского времени, совершивших революцию и защитивших ее, пошедших на смерть во имя свободы и независимости своей страны, но почему-то спокойно принявших серьезные жизненные ограничения, когда победа была одержана, и, несмотря ни на что, продолжавших искренне считать, что общественное всегда выше индивидуального, а общее дело, справедливость и равенство – не пустые слова.
Тот человек, который вышел из революционных событий начала 20 века, прошел гражданскую войну, был участником коллективизации и индустриализации, являлся по уровню своего образования и менталитету человеком революционного рывка в новую жизнь, в которой не будет капитализма с его делением людей на имущих и неимущих, с отсутствием защищающих трудящихся социальных законов. Этот человек вполне соответствовал по своему мировосприятию ограниченному, неполному пониманию социализма лишь как прямого отрицания капитализма. С позиций переживаемого времени ему было достаточно подобного понимания нового общества, как с точки зрения того, когда это было сделано, так и с позиций полноты содержания, тем более что все здесь исходило от ставшего абсолютным авторитетом – И. В. Сталина.



