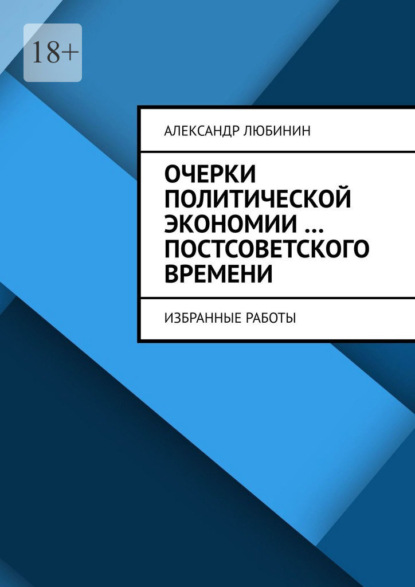
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
Вместе со сталинским определением социализма возникла тема экономического соревнования двух систем, определения преимуществ социализма в этом соревновании. Тема, которую реальный социализм «в основном», по классической марксистской модели, должен был бы оставить у себя в глубоком тылу, одержав всемирно-историческую победу над своим умело и отчаянно сопротивляющимся социальным противником, тем самым, получив заслуженное право на свое полное социалистическое название. Вести экономическое соревнование с капитализмом может только общество переходного социализма, социализма становящегося, который естественно сталкивается с предшествующим общественным строем в одной исторической эпохе. Это соревнование вел СССР и сейчас ведет современный Китай со всеми особенностями своего социализма по-китайски, о социально-экономическом смысле сказано в специальном очерке.
Все революционеры по природе своей пассионарны, это обязательная и неотъемлемая черта их образа мысли и действия, являющаяся продолжением их многочисленных достоинств и неизбежных недостатков. Они, поэтому, всегда спешат и чаще всего «перегибают палку», принимая в политической действительности желаемое за достигнутое. Большевики – не были исключением из этого правила. Революционная мысль, а с нею и практика, торопят жизнь и легко забегают вперед. Это рационально объяснимо еще и тем, что никакого учебника, ограничивающего нетерпение и субъективизм (оставаясь на научной почве, подобный учебник не может быть написан без появления соответствующего опыта), тем более пошаговой инструкции в отношении того, как двигаться в сторону желаемого будущего – социализма, не существует26. Поэтому приходиться, как, натолкнувшись на данную проблему, говорил Ленин, «выкарабкиваться самим» [15, с. 228].
Без отрицания капитализма нет социализма. Такое отрицание составная часть социалистической действительности, прежде всего его хозяйственной системы. А это реально было в советском социализме. Как была в довоенное время и сразу после войны, несмотря на все идущие от власти личностные стеснения граждан консолидация в обществе, понимание, согласие и поддержка проводимого курса на ускоренное индустриальное, научное, образовательное и культурное развитие страны. Для первого опыта строительства практического социализма это было вполне убедительным доказательством наступлением эпохи социализма. Но до конца научным доказательством полной и окончательной победы социализма это никак не могло быть.
Тем не менее, поскольку негативное отрицание капитализма действительно дает основы социалистического строя, полное отрицание социалистического характера советского общества, ввиду сохранения отчуждения работника от средств производства, партийно-государственного контроля над всеми процессами общественной жизни и ограничение личной свободы, является тоже неправильным. Категорическое и популярное в перестроечное время утверждение о том, что советский общественный строй не имел «ничего общего с социализмом» из того числа мнений, когда предельное обличительство заставляет отказываться от учета и анализа реальной действительности во всей ее полноте. Здесь вполне уместна образная аргументация такого рода противоречивых жизненных ситуаций, располагающих к различным оценкам, приводимая Э. В. Ильенковым: «… даже самая паршивая кошка все-таки кошка, а не собака».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Рекомендации школы (Н. А. Цаголова – прим. А.Л.) касались во многом того, как преподавать политэкономию. Выводов о том, как руководить страной, было мало. Общие декларации и заявления. Когда дело дошло до ситуации – хорошо, слушаем вас, предлагайте, – начал сказываться абстрактно-теоретический подход. От вроде бы правильной „идеальной схемы“ путей к реальной жизни не находили». [6, с. 385] В научном плане «школа Цаголова» сделала больше других, но недостаточно, во многом по независящим от нее обстоятельствам, связанным с переживаемым историческим временем. Из сегодняшнего же времени представляется, что все дело главным образом определялось именно качеством этой «идеальной схемы», от которой действительно было трудно, до невозможности, найти опосредующие пути к хозяйственной практике соответствующей требованиям жизни.
2
Автор одного из добротных современных западных учебников, К. Эклунд, определяя его содержание в качестве «экономики для начинающих и не только для них», выражая общепринятую в «экономикс» точку зрения, пишет, что «политэкономию часто называют «наукой о выборе», т. е. о том, каким образом люди распределяют свои ограниченные ресурсы между различными видами деятельности, чтобы достичь своих разнообразных целей» [38 с. 347]. Об общепринятости такой интерпретации предмета политэкономии современными неоклассиками свидетельствует следующая формулировка авторов другого популярного на Западе и в постсоветской России учебника: «Экономикс» исследует проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных потребностей людей» [15, с. 18].
3
В предисловии к первому изданию первого тома «Капитала» его автор счел необходимыми следующие «несколько слов для того, чтобы устранить возможные недоразумения»: «Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно исторический процесс; поэтому, с моей точки зрения, меньше, чем с какой-либо другой, отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно» [19, с. 10].
4
Философ считал, что «историческое, социальное, экономическое мышление ХХ века не может обходиться без того необратимого поворота, который Маркс придал самому взгляду на общественные дела, не может обходиться без результатов проделанной им работы и она разными путями вливалась в мыслительную культуру ХХ века» (12, с. 102).
5
Эта проблема обстоятельно рассматривалась в научной литературе [см.: 13; 7, с.4].
6
Авторы тезиса «о двух функциях» неизменно ссылались на известную ленинскую формулу о том, что оппонирующие марксизму «буржуазные профессора политической экономии», коим «нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии», «способны давать самые ценные работы в области фактических, специальных исследований» [9, с. 363].
7
Автором одной из первых, если не первой, публикации по системе экономических наук социализма стал в 1933 г. политэконом, автор комментариев к «Капиталу», Д. И. Розенберг [см.: 25].
8
«… мы начинаем с выделения первичных отношений, касающихся предложения, спроса и цены на отдельный товар, Мы исключаем влияние всех других факторов оговоркой „при прочих равных условиях“, хотя и не считаем их инертными, а лишь временно игнорируем их действие» [21, с. 53].
9
Сравнивая с марксистской политэкономией, А. А. Пороховский пишет: «… предмет исследования в неоклассике – гораздо более узкий» [23, с. 79].
10
Касаясь в данном контексте различий и противостояния франко-английской философской традиции и «туманной учености» немцев [в связи с чем было, в частности, констатировано, что французская философия «не соизволила заметить» Гегеля и Маркса (см.: Альтюссер А. Ленин и философия. – М.: Издательство «Ад Маргинем», 2005. – С. 17)], нельзя не указать на такое способствовавшее этому обстоятельство, как акцентированное еще в марксовой «Критике гегелевской философии права» различие социально-культурных климатов соответствующих стран. Она хорошо иллюстрируется воспроизведенным в популярной книге А. В. Аникина «Юность науки» (посвященной становлению политической экономии) анекдотом, сочиненным немецким химиком Оствальдом ради того, чтобы даже «человеку с улицы» легко было понять различие этих двух философских линий. Французу, англичанину и немцу задается вопрос: что такое верблюд? Первый, не любящий обременять себя сложными задачами, пойдет в Булонский лес под Парижем и, не обнаружив там верблюда, объявит, что этого животного вообще не существует. Второй, будучи по своей природе естествоиспытателем, страстным любителем путешествий и приключений, отправится в Африку, найдет верблюда, сделает из него чучело, приведет последнее в Англию и выставит в Британском музее: смотрите все на то, что есть верблюд, самостоятельно делайте выводы на основе собственного непосредственного опыта и здравого смысла. Третий же никуда не пойдет и не поедет, а запрется в своем кабинете и станет творить верблюда из глубин своего духа.
11
Этот сюжет марксова исследования подробно и квалифицированно прокомментирован в материале К. Тронева [см.: 32, с. 66—69].
12
«Можно было бы сказать так, что буржуазное сознание тоже способно к самокритике, но оно не может довести ее до конца, а если сможет, то перестанет быть буржуазным, кто бы ни были носители этого сознания по своему социальному положению» – отмечает С. Н. Мареев [16, с. 21].
13
Словосочетание «так называемая экономическая теория марксизма (марксистская политическая экономия)», употребленное в указанном выше издании [см.:29, 7] (см. также текст аннотации на четвертой стороне обложки учебника) представителем кафедры политической экономии экономического факультета Московского университета, мягко говоря, не украшает эту кафедру, небезосновательно считающуюся носителем традиций классической политической экономии в СССР и в постсоветской России. Тем более горько и обидно сталкиваться с безапелляционно-размашистыми пассажами вроде следующего «перла» автора цитированного учебного опуса: «В целом парциализм (от простого к сложному целому), холизм (от непознаваемого целого к простому) и их разновидности (метод от простого абстрактного к сложному конкретному, метод единства исторического и логического, метод аналогий) неприменимы для построения модели живой органической целостности» (29, с.10). Чего здесь больше: – не преодоленного знанием модных слов скудоумия или элементарной антимарксистской конъюнктурщины?
14
В подобном ключе В. В. Путин высказался на своей большой пресс-конференции 23 декабря 2016 г.
15
Патриотизм многогранное явление, поскольку может подпитываться из разных источников. Кроме гражданского патриотизма, о котором идет речь, выделяются другие его актуальные формы. Есть экономический патриотизм, прочно связывающий высокие чувства к Родине со своими личными материальными интересами. Родина здесь экономический феномен. Он, прежде всего, естественным образом присущ буржуазным и около буржуазным слоям, которые возвышались вместе с развитием капитализма в своих странах, используя силу государства для укрепления своих экономических позиций внутри страны и осуществления экспансии на рынки других стран. Тут одна из коренных черт буржуазного сознания, заложенная как ген в его происхождении. Можно говорить о религиозном патриотизме, особенно заметном в исламском мире. Существуют веские основания для социального патриотизма, который связывает любовь к Родине с ответной любовью Родины ко всем своим гражданам, со стремлением на деле к социальной справедливости. Несомненно, есть революционно-романтический патриотизм, принимающий разные формы, как прогрессивно направленного, так и регрессивного вида. Таким был, с присущим ему содержанием, патриотизм большевиков и поддержавших их народных масс. И таким же по своему характеру был патриотизм авангарда кубинской революции во главе с ее лидером Ф. Кастро.
16
На момент Великой французской, буржуазной уже по своему смыслу, революции (1879—1894 гг.), на российском престоле находилась Екатерина 11, отменившая «юрьев день». Ее правление, несмотря на просвещенческие претензии, – высшая точка феодального строя в России),
17
«… именно те люди, против которых были прежде всего и главным образом направлены репрессии 1937, создали в стране сам „политический климат“, закономерно – и даже неизбежно – порождавший беспощадный террор. Более того: именно этого типа люди всячески раздували пламя террора непосредственно в 1937 году!» [8, с. 99—400].
18
Находить в этом чей-то злой умысел было бы неправильно, подчеркивал С. Меньшиков. На первом месте потребности обороны и развитие базовых отраслей – ресурсной основы и тяжелой промышленности. Так получалось в силу реального складывающейся международной обстановки изначального отставания социалистических стран по уровню экономического развития. Это ставило на первый план поддержание высоких темпов экономического роста за счет за счет преимущественного развития производства средств производства по сравнению с производством предметов потребления» [5, с. 316].
19
Наиболее типичны три варианта модельного подхода к соотношению представлений классического марксизма о социализме и реально существовавшего социализма. Первый вариант – сама марксистская идея социализма, последователем которой был И. В. Сталин, неверна и со всей очевидностью отвергается жизнью. Второй – социализм оказался в кризисе, так как И. В. Сталиным были допущены грубейшие отступления от марксизма-ленинизма. Сам же «сталинский социализм» ничего общего не имеет с классической моделью научного социализма К. Маркса и В. И. Ленина. Третий вариант, громко заявивший о себе, можно назвать комбинированным. Не рассматривая И. В. Сталина как идейного последователя марксистского социализма, разработчики этого варианта в то же время обнаруживают истоки сталинизма в ряде утопических положений классического марксизма [Cм.: 7, с. 49,50].
20
«Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что этот расширенный порядок (т. е. капитализм – А. Л.) сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования определенным традиционным и главным образом моральным практикам» [56, с. 15].
21
«Требования социализма не выводятся как моральный итог из традиций, сформировавших расширенный (т.е. капиталистический – прим. А.Л.) порядок, который в свою очередь сделал возможным существование цивилизации». [49, с. 17].
22
«… Я не считаю, что получившее широкое хождение понятие „социальной справедливости“ описывает какое-то возможное положение дел или хотя бы вообще имеет смысл» [56, с. 17].
23
Западная экономическая мысль, сосредоточившая свои интеллектуальные усилия, за редким исключением, вокруг проблем функционирования капиталистического хозяйства, даже тогда, когда исследуются происходящие в нем изменения качественного порядка, не видит в этом, подобно марксизму, форму движения имманентных капитализму противоречий, которые могут быть разрешены лишь новым общественным строем. Убеждение, что человечество уже сейчас живет в лучшем из миров и, в этом смысле, наступил конец истории, что новый социально-экономический строй жизни всегда будет хуже достигнутого и поэтому вреден, не нужен и невозможен, является теоретическим и идеологическим препятствием проявления внимания к «переходным формам». Есть, однако, исключения. Будучи откровенным защитником капитализма Й. Шумпетер, тем не менее, усматривал возможность исчезновения капитализма с исторической арены. В своей брошюре «Империализм и социальные классы» он писал: «Капитализм заключает в себе истоки своей собственной гибели, но в ином смысле, чем это имел в виду Маркс. Общество обязательно перерастет капитализм, но это произойдет потому, что достижения капитализма сделают его излишним, а не потому, что его внутренние противоречия сделают его дальнейшее существование невозможным» (Imperialism and Social Classes. Oxford, 1951, p. 108). Никто, однако, не знает, как будут развиваться дальнейшие события, до какой степени располагающие уже опытом поддержания социального мира, имущие власть и собственность, готовы будут признать свою ненужность и стать «как все». Факт, однако, заключается в том, что проявлять общественную корректность и делать уступки их заставляют достигающие своего накала социально-экономические противоречия.
24
Справедливости ради можно отметить, что подобие попытки соотнести параметры практического социализма с критериями социализма классического имели место в связи с конкретизацией в первой половине 1980-х годов ранее выдвинутой «концепции развитого социализма», что стало реакцией не на развитость, а как раз на неразвитость «реального социализма» в СССР, способом отмежеваться от установки «хрущевской» партпрограммы на быстрое, форсированное прохождение социалистической фазы коммунизма. Факты даже таковы, что в результате этой конкретизации и в официальных публикациях (например, в статье «На уровень требований развитого социализма» в №18 журнала «Коммунист» за 1984 г., подписанной предпоследним генсеком,, и в работах ученых политэкономов (в том числе Н. А. Цаголова, титульного редактора известного университетского «Курса политической экономии») появились постановки, близкие к признанию незавершенности в стране – по критериям классического марксизма-ленинизма – переходного от капитализма к социализму периода (комментарии к этим положениям см., в частности,: [44, 45]).
25
Автором одной из первых, если не первой, публикации по системе экономических наук социализма стал в 1933 г. политэконом, автор популярных комментариев к «Капиталу». См.: [32]. См. также [18].
26
«Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? – повторял Ф. Энгельс, заданный ему вопрос, и отвечал: – Вы и намека на них не найдете у нас». [27, с. 563]. С этим обстоятельством связана странность, которую нельзя не заметить: при полном внимании к вопросам экономической подготовки социализма в недрах капитализма, анализа с этих позиций его новой монополистической стадии, выводящей сознательное хозяйствование и планомерность, как и предвидел К. Маркс, за пределы отдельных хозяйственных единиц, никаких разработок проектов организации хозяйственной жизни в будущем обществе в дореволюционной марксистской литературе так и не появилось
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



