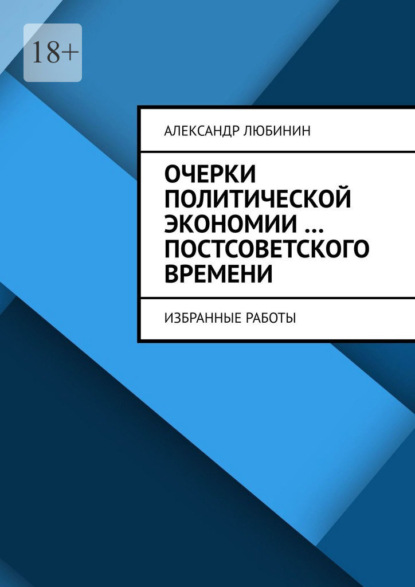
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы

Очерки политической экономии …постсоветского времени
Избранные работы
Александр Любинин
© Александр Любинин, 2025
ISBN 978-5-0065-3489-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Издано при содействии АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
В книгу включены авторские материалы по ряду актуальных проблем экономической теории и острых тем социальной публицистики в переживаемый в настоящее время страной период. Таковы вопросы генезиса «экономикс» и его трактовки основателями неоклассической политэкономии, соотношение неоклассической политэкономии с политэкономией классической. Центральное место отведено взаимосвязи построения социализма в одной отдельно взятой стране в окружении недружественных государств с закономерно наступившей эрозией социалистического идеала вследствие длительного сохранения мобилизационного социально-экономического уклада, стесняющего каждодневную жизнь людей. Анализируется так называемая «ловушка Сталина»: упрощенное понимание социализма исключительно как антикапитализма, приведшее к отрицанию на этой основе товарно-денежных отношений, игнорирование необходимости становления социализма через переходные формы, сведение централизованного управления к кажущейся простоте раздачи директивных заданий, спутывание советского социализма с классическим марксистским его пониманием и рассмотрение как образца, на который должны равняться все страны, избирающие социалистический путь. Ряд очерков посвящен контраргументации новомодной критики марксизма с национально-патриотических позиций. Показана методологическая бесплодность попыток органического синтеза марксистской (классической) и неоклассической (экономиксовой) политэкономии. Сделаны полемические пояснения относительно значимости национально ориентированного подхода к экономике в системе экономических наук. В связи с вступлением России в ВТО рассмотрены базовые основания протекционизма и свободы торговли как экономической политики. В противовес мнимым и политически мотивированным раскрыты действительные причины распада межнациональной системы отношений. Показаны истоки и реальное своеобразие китайского социализм.
От автора
В книгу вошли материалы, написанные мною за последнее время. Посвящены они широкому спектру вопросов социально-экономического плана: от сугубо методологических и теоретических (классическая и неоклассическая политическая экономия, генезис и содержание «экономикс», становление экономической системы социализма в СССР, политэкономические школы, возникшие в стране; новомодные интерпретации марксизма и его современная критика, в том числе с позиций российской патриотической мысли; значение национально ориентированного подхода в экономической теории, самобытность китайского социализма) до конкретно-экономических (протекционизм и свобода торговли как экономическая политика – в связи с вступлением России в ВТО; перипетии страховых пенсий) и публицистических (Россия и ее военная экономика в канун и в ходе Великой Отечественной войны, драма межнациональных отношений, поиск национальной идеи). Всякий раз указанные материалы писались на злобу дня в качестве авторского реагирования на проблемы, которые оказывались в центре внимания научной общественности как левой, так и либеральной. Подобная многоаспектность содержания книги совершенно сознательный выбор автора. В данном случае мне было мало познакомить читателя с какой-то одной, узкой, пусть и злободневной, проблемой (это предмет отдельных статей в периодической печати), а требовалось показать совокупность (конечно, далеко не полную) актуальных в постсоветское время обществоведческих тем, в суждении о которых автор полагал необходимым определить свое место.
Читатель найдет в книге много полемики и критических высказываний, в том числе в адрес моих уважаемых (говорю это со всей искренностью) коллег «по цеху». Но как артиста обязывает сцена, так истина обязывает любого участвующего в научной жизни. Ничто иное, кроме стремления не уклониться от истины, и, если надо, выступить в ее защиту, автором не руководило. В предлагаемых мною текстах нет ни одного критического посыла на основе голословного утверждения, равно как отсутствуют такого рода суждения, сделанные на основе предположений. Все доводы, как это и должно быть, непременно оснащены аргументами логического, исторического и фактического свойства.
Хочется выразить признательность людям, без которых данная книга, не была бы, скорее всего, написана, по крайней мере, в данном виде.
Автор считает себя последователем того, что можно было бы назвать особым духом кафедры политэкономии Экономического факультета МГУ, которую в его бытность студентом и аспирантом кафедры возглавлял Н. А. Цаголов. Приоритет Н. А. Цаголова в отстаивании применения диалектической логики к построению системы категорий политической экономии социализма и, соответственно, к последовательно научной трактовке самого социализма, – бесспорен и отражен мною в соответствующем разделе книги.
Особая благодарность В. В. Куликову, с которым у меня, начиная со студенческой скамьи, были особенно тесные научные контакты. В. В. Куликов – крупная личность, его научный талант в области политэкономии был выражен очень сильно, признан и уважаем едва ли не всеми.
Искреннюю признательность адресую рано ушедшему, в полном жизненном смысле бесподобному, А. Ю. Мелентьеву, ставшему у руля «Российского экономического журнала» (в советском прошлом «Экономические науки») в тяжелые 90-е гг. Даже со сравнительно небольшим тиражом (судьба, постигшая всю научную периодику) журнал оказывался насущно нужен научно-педагогической общественности, давая возможность высказываться различным общественно-политическим силам, при этом оставаясь на позициях строгой критичности и научности. Тон в такой направленности издания всегда задавал лично А. Ю. Мелентьев, формируя авторский актив, публикуя личные статьи, помещая собственные предисловия и послесловия к публикуемым материалам, и делая многочисленные полезные подстраничные пояснения и ремарки.
Автор надеется, что предлагаемая книга позволит каждому познакомившемуся с ней, обрести более глубокий, а главное, взвешенный, взгляд на недалекое прошлое и настоящее нашей, отечественной, социально-экономической жизни.
Очерк 1. К вопросу о генезисе и предметном содержании «экономикс»
Вот уже полтора века мир капиталистического (рыночного) хозяйства как научная проблема изучается дисциплиной, известной под названием «экономикс». Данное название в явном виде содержит отход от сложившегося еще до полной кристаллизации неоклассики обозначения научной дисциплины того же рода и назначения – «политическая экономия». В связи с этим, естественно, возникает вполне закономерный вопрос: в силу каких действительных причин это произошло. Отражало ли введение в научный оборот нового названия экономической науки концептуальный идейно-теоретический характер, который означал для неоклассики принципиальный сдвиг в понимании предмета и содержания теоретического анализа, от политэкономии к чему-то действительно иному – к «неполитэкономии»? В свете событий в сфере преподавания экономической теории и научных исследований в этой области, развернувшихся в нашей стране с началом постсоветского периода, данный вопрос приобрел особый, и не только академический, интерес.
Ряду исследователей отсутствие у «экономикс» политико-экономического содержания представляется самоочевидным и не требующим учета мнения представителей этого научного направления. Чаще всего отправным пунктом для подобной позиции является факт острого идейного противостояния западной экономической мысли и марксистской политэкономии, особенно в советский период, оставивший отпечаток на их теоретическом содержании. М. Хазин пишет: «… создание коммунистических партий, а затем и появление СССР напугало капитализм страшно. И он начал борьбу за принципиальное изменение всех общественных наук с целью доказать (или фальсифицировать доказательство) свое право на вечное существование. И именно в рамках данной работы появилось то, что сегодня называется „экономикс“, а термин „политэкономия“ был напрочь изгнан с порога академических заведений, чтобы никто о нем и не вспоминал» [34].
Действительно в начале постсоветского периода отмеченный дискурс отчетливо проявился в событиях, развернувшихся в нашей стране, когда были введены новые образовательные стандарты, предусматривающие преподавание экономической теории в ее сугубо западном варианте; политэкономия была исключена из классификационного реестра экономических специальностей в науке, а соответствующие кафедры в принудительном порядке были организационно переформатированы с утратой своего прежнего названия и идейно-теоретически переориентированы на преподавание «экономикс», обеспечивая открытую экспансию неолиберализма в нашей стране. Но все такого рода события именно в силу их политической ангажированности и административного характера осуществления, сами по себе, факт добровольного «расставания» «экономикс» как науки с политэкономией никак не доказывают.
Существует, однако, и позиция, исходящая из такой совершенно осознанной добровольности. Как отмечал С. Дзарасов: «Прежнее название „политическая экономия“ заменил на „экономикс“ А. Маршалл в своей работе 1890 года, и это означало изменение угла зрения в рассмотрении проблем экономических наук. Социальный аспект был затушеван, и внимание переключено на технико-экономические зависимости, выступающие в экономической действительности. Именно в таком виде „экономикс“ воспринят нами» [6, c. 440].
Чаще всего, однако, отход «экономикс» от политэкономии подается в современной литературе как само собой разумеющийся общеизвестный факт, не требующий специального комментария. Утверждению такого мнения со стороны «экономикс» способствует то, что сами представители этого направления никогда не настаивали на том, что их исследования – это именно политэкономия, можно сказать, не дорожили своей принадлежностью к этой науке и не вступали в споры на данную тему.
Приоритет в непредвзятом рассмотрении вопроса, а был ли в реальной истории возникшей и уже имеющей своих общепризнанных классиков науки, которая к середине 19 века стала вполне себе модной и известной в мире как политэкономия, такой, имеющий научное основание факт, бесспорно должен быть отдан обращению к истокам его возникновения. Адресуясь, в связи с этим к аргументации основателя «экономикс» А. Маршалла, который действительно предложил это новое название, дело заключалось в следующем. Экономическая наука, как полагал А. Маршалл: «является наукой – чистой (т. е. теоретической – прим. А.Л.) и прикладной… Вот почему ее лучше обозначать широким термином «экономическая наука» (Economics), чем более узким термином «политическая экономия» (Political Economy)» [21, с.100]. Таким образом, по мысли А. Маршалла, своего рода ребрендинг для политэкономии требовался по соображениям сугубо прагматического (лучше обозначать более широким термином), а не принципиально научно-смыслового или идеологического свойства. Вводя новое название, как это следует из собственноручно написанного им, А. Маршалл лишь подчеркивал тот важный для него факт, что та политэкономия, которой он себя посвятил, является по существу не только наукой теоретической, но и практическим пособием для осознанной и активной деятельности экономических субъектов.
Для понимания природы мотива, которым руководствовался А. Маршалл, предлагая новое название, важный момент заключается в том, что его новация определяется не только лишь субъективным желанием ученого-теоретика, который действительно был по своей натуре человеком общественно неравнодушным, имел склонность не только к преподаванию, но и к применению своих знаний, постоянно посвящая себя разнообразной практической работе за пределами университетской среды. Особенность подхода А. Маршалла целиком и полностью вытекала из понимания им предмета, а в связи с этим и смысла экономической теории, которые впоследствии закрепились в «экономикс». В 11-ой главе своих «Принципов экономической науки», названной «Предмет экономической науки», А. Маршалл указывает, что таким предметом «являются побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни». И далее, разворачивая свою аргументацию, А. Маршалл указывает на то, что экономическая наука «имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой натуры» и занимается главным образом теми желаниями, устремлениями и иными склонностями человеческой натуры, внешние проявления которых принимают форму стимулов к действию, «изучает душевные порывы не сами по себе, а через их проявление» [21, c. 69].
Из этих формулировок ясно видно, что подобная трактовка предмета органически носит не пассивно-академическую, а активно-деятельностную направленность как свою неотъемлемую составную часть. Собственно, к этому и стремился А. Маршалл, указывая на естественную, по его мнению, прикладную актуальность экономической теории. В этом пункте есть принципиальное смысловое отличие его понимания предмета от понимания предмета в классической политэкономии (и у современных авторов [см.: 28]), остающихся на этой же точке зрения) как производства богатства. Также и производственные отношения в качестве определения предмета марксисткой политэкономии прямым и явным образом не содержат в себе претензии на практическое пособие для капиталистов и других участников экономической жизни, хотя из внутренней сути такого понимания предмета вырастает активная, и даже революционная, общественно-политическая практика. Отметим, как факт то, что в советское время недостаточность прямого практического применения политэкономии оставляла чувство неудовлетворенности у многих политэкономов, представителей конкретно-экономических дисциплин, практических работников и изучающих эту науку, создавая впечатление ее излишней абстрактности и недоработанности1.
Исходя из показанного выше, представляется неизбежным вывод: название «экономикс» предлагалось А. Маршаллом как еще одно, дополнительное, в определенном смысле более полное, определение для развиваемой им политэкономии, которое указывало на ее органически прикладную ориентацию, но никак не вместо имеющегося названия с целью его исключения как совершенно неудовлетворительного. Говоря об «экономикс» в подобной его смысловой определенности, А. Маршалл, что очевидно, никакой крестовый поход против политэкономии и марксизма не затевал, и явно не имел в виду его возглавить, несмотря на формальную возможность именно так интерпретировать его позицию. Но это если, разумеется, не обращаться к первоисточнику. Отсюда нет никаких оснований усматривать исход «экономикс» из политэкономии в лице А. Маршалла, выдвигая в качестве «бесспорного» аргумента, помимо уточненного им, более содержательного, обозначения экономической науки, название его главного труда, а также (в качестве дополнительного аргумента) намерение У. Джевонса назвать свою новую работу «Principles of Economics», где слово политэкономия отсутствует, вместо вышедшей его книги (кстати, значительно ранее, чем работа А. Маршалла) «The Theory of Political Economy», уже содержащей «экономиксовые» мотивы. В конце концов, А. Смит тоже не использовал название науки, в рамках которой он вел исследование, для заголовка своего выдающегося в истории экономической мысли произведения, да и Маркс в «Капитале» обратился к этому названию только в подзаголовке.
И в дальнейшем, укрепляясь как одно из основных, наряду с марксизмом, течений экономической мысли, а в настоящее время став и доминирующим направлением современной экономической теории, которое претендует на всеобщее значение и признание, разработчики «экономикс», а в дальнейшем его сторонники и популяризаторы (за исключением наших российских, свернувших с пути марксизма-ленинизма в бог весть куда, и по этой причине отвергнувших заодно и политэкономию) никогда, однако, не открещивались, не выказывали и поныне не выказывают намерений отрицать своего не то что родства, а полного тождества с политэкономией. Один из «классиков неоклассики» П. Самуэльсон в своей ставшей знаменитой «Экономике» (написанной в 1948 г. и многократно переиздававшейся в дальнейшем) как нечто само собой разумеющееся, без каких-либо оговорок, написал: «Экономическая теория, или политическая экономия, как ее обычно называют…» [28, с. 26]. Сказано совершенно обыденно как о чем-то всем хорошо известном и понятном. Поэтому не только англосаксы, но и, как говорил В. Маяковский, «датчане и прочие шведы», в том же духе, т. е. «как обычно», полагают «экономикс» политэкономией2, не усматривая здесь какой-либо вообще, тем более концептуальной, разницы между ними.
Таким образом, в теоретическом соотношении политическая экономия – «экономикс», якобы образующая между ними водораздел идеологическая, как сейчас модно говорить, составляющая, отсутствует полностью, и констатировать ее здесь является грубой фактической ошибкой, для совершения которой сам «экономикс» оснований не давал. По крайней мере, до сей поры, он себя от политэкономии не отделял и заявлений о невозможности существовать с этой наукой на одной предметной территории не делал.
Вместе с тем, указывая на данное обстоятельство, нельзя упустить и другой, не менее важный в связи с рассматриваемым вопросом факт, заключающийся в том, что не только западные, но и советские авторы не отказывали в праве «экономикс» именовать себя политэкономией [см.:1], несмотря на то, что видели в «экономикс» идеологического противника и предмет для критики. Все это доказывает, что вопрос о соотношении «экономикс» и политической экономии не имеет идеологических исторических корней, он не связан с возникновением марксизма и практикой социализма в ХХ веке. Хотя в сфере экономической теории «республика ученых» с единым «законодательством», о чем в общей форме мечтал Кант, по понятным причинам не сложилась, и возникшие научные конфликты разрешались на пути «уничтожения» оппонента, не согласные стороны друг друга от политэкономии не отлучали. Случилось это уже в постсоветский период.
Реакция постсоветской российской власти, поспешившей «закрыть» политэкономию вообще, в действительности была направлена против марксистской политэкономии, приняв при этом не просвещенную, как это почти всегда случается при крутом социально-политическом переломе, импульсивную, резко и открыто идеологизированную форму, инициированную новым, ставшим у административного руля, начальством со сжатыми «кулаками полными полномочий» (Салтыков-Щедрин). Впоследствии незаслуженное и размашистое превращение политэкономии как таковой в «без вины виноватого» позволило ряду кафедр экономической теории вернуть их собственное историческое название. Но дело было сделано, ситуация «замутилась»: с подачи властей возник российский феномен «паспортизации» «экономикс» как не политэкономической науки, воспринятый, как было показано выше, его вольными и невольными (имея виду немалую часть научно-педагогической общественности) сторонниками, так и его оппонентами. Действие, тем более не разумное, в отношении политэкономии как таковой спровоцировало не всегда адекватное противодействие в отношении трактовки политико-экономического содержания уже «экономикс». Как всегда, излишняя мнительность часто не лучше того порока, на который она обращена. Появившаяся мифологема, что «экономикс» уже не политэкономия имеет целиком российское происхождение, соответственно российских же, как видим, «пап» и «мам». Прав был много поведавший на своем веку, достойный упоминания с большим почтением, наш философ М. А. Лившиц, написавший: «Я люблю либералов, когда их не жалуют, и ортодоксов, когда у них руки коротки» [10, с.98].
«Экономикс» и марксистская политэкономия различаются не как политэкономия и не политэкономия, а как две разные политэкономии. Назовем их для краткости, сохраняя в определении идеологическую по факту разнокачественность, буржуазная или правая («экономикс») и пролетарская (марксистская) – левая. Существование одной и той же науки в двух разных, и даже исключающих по своему содержанию, вариантах, означает возникновение ситуации совершенно невозможной в естественных науках. В годы перестройки при большом рыночном возбуждении умов на данное обстоятельство указывалось в качестве наиболее «железного» по своей бесспорности аргумента в пользу отрицания самого факта существования двух политэкономий. Поскольку очевидно, что не может быть буржуазной или пролетарской физики, химии, математики и много чего другого, то по аналогии в принципе невозможны и две политэкономии: лишь одна из них может быть действительной наукой. Разумеется, в этом самоценном качестве котировался «экономикс», вторая же – марксистская политэкономия – попадала в категорию «от лукавого» и определялась как псевдонаука, преподавать которую было никак нельзя.
При всем, однако, единстве функционирования и развития различных составных частей материального мира социальная материя обладает одной уникальной и исключительной, присущей только ей особенностью: она реально двойственна, т. е. и объективна, и субъективна, на том простом и очевидном основании, что, даже признавая объективную детерминированность жизненных процессов, в них действуют живые люди, одаренные волей и сознанием. «… История науки и техники, – писал видный социальный философ Э. Ильенков, – коллективно творимая людьми, процесс, вполне независимый от воли и сознания отдельного индивида, хотя и осуществляемый в каждом его звене именно сознательной деятельностью индивидов» [8, с.118—119]. Прав лишь тот ученый-обществовед, который учитывает наличие обеих данных сторон, от необходимости чего свободен ученый-естественник, имеющий дело лишь с объективными процессами мироздания.
Экономическая жизнь как реальность и как объект научного познания – в действительности структурно разнородна, что не может не отразиться на воспроизводящем его знании. Предельно обобщая, можно утверждать, что система научного знания распадается на две науки: физику и науку о сознательных явлениях. Политэкономия (в любом ее виде), разумеется, относится, к последней из указанных наук. Но при этом сами сознательные явления также распадаются на две относительно самостоятельные формы своего бытия: объективную и субъективную, т. е., в свою очередь, имеют особого рода физику – объективную форму существования, независимую от воли и желания людей, и форму, определяемую их субъективной волей. Забегая вперед, отметим: именно наличие такой двойственности составляет определяющее социально-философское и в силу этого теоретическое и мировоззренческое основание, которое развело в стороны классическую, включая марксистскую, политэкономию и политэкономию неоклассическую, сохранив при этом объединяющее их общее политико-экономическое содержание как знания об отношениях людей в процессе хозяйственной жизни.
В связи с этим нельзя не согласиться с одним из самых авторитетных отечественных политэкономов в том, что неоклассический «мейнстрим» в исходном пункте своей исторической эволюции продолжил «традиции политико-экономического жанра» [37, с.58]. Если рассматривать событийный ряд наиболее заметных теоретических шагов в историческом развитии политической экономии, то несложно увидеть, что они относятся то к одной, то к другой стороне социальной двойственности. В данной связи заслуга, если так можно сказать, А. Маршалла заключается в том, что он твердо обозначил себя последовательным представителем одной стороны данной двойственности, искренне полагая ее единственной, создал связанную с этой стороной систему теоретических представлений и тем самым как бы понудил каждого исследователя сделать свой выбор, покончив с шатаниями в разные смысловые стороны.
Отмеченный двойственный эффект социальной жизни – научное открытие Маркса, получившее отражение в его политэкономии, но не замечаемое (неважно вольно или невольно) представителями «экономикс». Признавая ведущую роль человеческой деятельности в развивающемся историческом процессе, Маркс в то же время показал, что всякий раз люди вступают в отношения друг с другом, уже находясь в определенных социальных формах, которые составляют основное и объективное по отношению к ним условие хозяйственной деятельности, остающееся вне их субъективной воли. Конечно, сугубо личные намерения не перестают существовать, но с теми или иными устремлениями, с желанием или без, с хорошим или плохим настроением, и т. д. люди вынуждены действовать так, как к этому их принуждают сформировавшиеся вне них социальные обстоятельства, которые придают субъективной воле людей объективную форму. В данном случае исходная социально-экономическая реальность, принимаемая во внимание наукой, есть то объективно общее, что в равной мере существует для всех людей (в чем они одинаковы) и социально их структурирует. Любая и всякая специфика индивидов в данном случае погашена и во внимание на этом этапе не принимается. Нельзя, писал по этому поводу еще молодой Маркс, «упускать из виду объективную природу отношений и все объяснять волей действующих лиц. Существуют отношения, которые определяют действия как частных лиц, так и отдельных представителей власти, которые столь же независимы от них, как способ дыхания» [17, с. 192]3.

