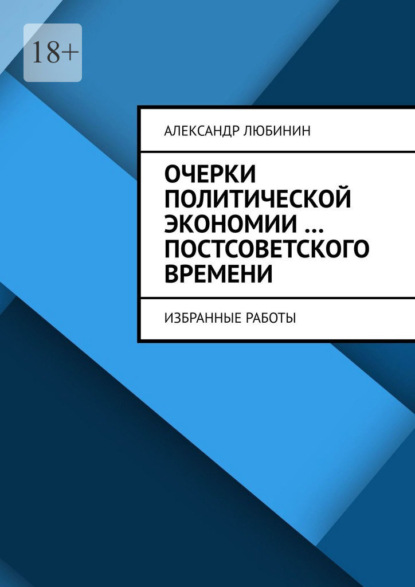
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
С интуитивной попытки учесть объективную сторону экономических отношений, собственно, и стартовала политическая экономия как наука. Достаточно сказать, что, именно стремление У. Петти исходить в экономическом анализе из таких причин, которые имели видимое основание в природе (для него, как и для физиократов, объективность социальных законов определялась их тождественностью законам природы) и исключить все то, что зависит от мнения и желания людей, превратило его подход, как сам У. Петти с полным основанием полагал, в «нетрадиционный». Классическая политэкономия возникала через преодоление различного рода субъективно формирующихся (первоначально иначе и быть не могло) представлений об экономической жизни. Подчеркивая значимость данного обстоятельства, Маркс отмечал: «Петти чувствует себя основателем новой науки» [18, с. 39]. Как известно, эта наука в ее направленности на установление объективного закона получила дальнейшее развитие, в том числе в творчестве А. Смита, который специфику политико-экономического подхода подчеркнул даже в названии своего главного сочинения – «Исследование о природе (выделено— А.Л.) и причинах богатства народов». При этом именно поиск объективной основы подвиг его признать центральной категорией классической политэкономии труд деятельных человеческих существ, удовлетворяющих свои потребности через общественные связи. Исходный для классической политэкономии принцип объективного отражения экономической жизни был поддержан в работах Рикардо, которого Маркс особенно ценил и ставил даже выше Смита.
Комментируя методолого-мировоззренческое кредо марксизма о двойственности социально-экономических процессов, другой наш крупный философ М. Мамардашвили подчеркивал, что Маркс открыл «эффект действия или работы деятельностных, социальных или человеческих структур. Он показал, что вместе с представлениями, намерениями, целями, которыми руководствуются люди, сообразно с которыми они стремятся к чему-то, вступая друг с другом в отношения, обмениваются опытом и идеями, творят то-то и так далее, – параллельно с этим, вместе с этим, они одновременно создают, вступают в некоторые фактические отношения, которые работают физично, которые создают структуры, объективные по отношению к первым, то есть к словам, представлениям и намерениям и так далее, и которые работают, порождая свои результаты, не входившие в намерения и цели». Логическим и практическим следствием этого является, – продолжал философ, – то, что «впервые в исторических статьях Маркса (я уже не говорю о „Капитале“) вырабатывается такой взгляд, что перед лицом каждого словесного построения политической программы, политического движения как бы задается вопрос: а что это значит, а что это на самом деле и что есть независимо от этих слов и представлений, какова на самом деле будет фактическая связь, или фактическая закономерность, на основе которой и развернется человеческое действие, имеющее или дающее тот или иной результат» [12, с.100—101]4.
В приведенных суждениях М. Мамардашвили, вслед за Марксом, указывает на два ключевых основания, которые принципиальным образом определяют реальную возможность двух разных подходов к процессам экономической жизни со своими особыми требованиями к их реализации. Это либо изучение объективных по отношению к отдельному индивиду социальных форм деятельности при абстрагировании от проявлений его субъектности, что выводит на первое место качественную сторону экономических отношений в их исторической определенности и развитии, либо рассмотрение субъектной деятельности отдельного индивида, но уже при абстрагировании от исторического происхождения и объективного содержания данных социальных условий этой деятельности. Последнее, в силу природы капиталистического хозяйства, заставляет воспринимать отношения между людьми как отношения людей к вещи и, как считал А. Маршалл, «видеть вещи в их количественном соотношении» [21, с. 12], которое относится, «точнее, не столько к совокупности количеств, сколько к приростам количеств…» [21, с.49].
Но такое видение вовсе не означает, что в отличие от классического подхода «экономикс» в принципе перестает заниматься отношениями между людьми, заменив исследование этих отношений анализом отношений человека к вещи. Производственные отношения никуда не могут деться, поскольку какую бы форму ни приобретало «виденье» экономики, речь неизбежно идет о взаимодействии людей в хозяйственной деятельности. Действительная проблема здесь в том, что в сфере, к которой себя накрепко теоретически привязал «экономикс», отношения между людьми непосредственно «видятся» как отношения между вещами. Это не уход от производственных отношений (даже если этого очень хочется или почему-то нужно), а абсолютизация исторической формы их проявления в вещи, что, собственно, и доказывает марксизм. Производственные отношения – специфика предмета политэкономии. В марксизме он представлен с объективной стороны, очищенной от вещных форм выражения, и потому непосредственно, а в «экономикс» – субъективно, через отношение к вещи, – и потому имплицитно. Единство и различие предмета двух политэкономий именно в этом. Нет двух ветвей или линий единственной и некогда единой политэкономии, а есть разные политэкономии: классическая (в своем высшем взлете – марксистская) и неоклассическая. Различия здесь даже серьезнее, чем между иудаизмом и христианством с их общим – Ветхозаветным исходным пунктом.
Утверждение политэкономии, построенной на ином мировоззренческом фундаменте, нежели политэкономия классическая и марксистская стало возможным именно потому, что экономика, как и общественная жизнь в целом, является сферой сознательной деятельности людей, а значит, и проявлением их субъективной воли, от чего марксистская политэкономия сознательно в силу особенностей своей методологии абстрагируется. Тот или иной выбор, который всякий раз, не задумываясь об объективных обстоятельствах, которые понуждают проходить процедуру выбора, делает разумно действующий субъект экономических отношений, – реальный аспект этих отношений. Причем эта субъектная сторона постоянно наличествует независимо от того, понята она в связи с объективным содержанием производственных отношений или нет. Например, для предпринимателя всегда императивен практический вопрос выбора формы заработной платы, не имеющий отношения к тому или иному объяснению ее объективной природы, а именно, какую из возможных форм (или их возможных сочетаний) наиболее целесообразно применить в каждом конкретном случае (а у предпринимателя все случаи конкретные – других просто нет). Этот выбор обязателен и в этом своем качестве независим от того, определяется ли он на основе каких-либо теоретических (политэкономических) выкладок, или исходит из сугубо утилитарных соображений. Аналогичного рода вопросы, практическое решение которых целиком является продуктом деятельного сознания, возникают и, так или иначе, разрешаются в любой сфере промышленной, торговой или финансовой деятельности, в материальном и нематериальном производстве в целом. Без этого не было бы действительной экономической жизни, исключались бы различия в результатах хозяйственной деятельности и возможности их улучшения.
В историческом процессе развития политэкономии объективное наличие данной двойственности образует смысловой центр разделения единой науки на два несовместимых друг с другом направления, что дало возможность формирования как той политэкономии, которую в классических традициях разрабатывал Маркс, так и той, из которой родилась и выросла неоклассика – «экономикс», сосредоточившаяся на исследовании поведенческих, субъектно детерминированных процессов. Указанная двойственность социально-экономической жизни – объективный факт. Поэтому сам «экономикс» отказался называть себя политэкономией или кто-то ему в этом отказал никак на его научное содержание“ повлиять не может и потому значения не имеет. Проблематика „экономикс, и в значительной мере его ценностные ориентиры, не придуманы, а априори заданы той видимой стороной социально-экономической жизни, которую он исследует, добывая «свою» истину. Эта истина, пусть и в ограниченных пределах, но позволяет человеку быть грамотным и, с большим или меньшим успехом, решать практические вопросы жизни.
Нет большого смысла в том, чтобы определять природу «экономикс» перечислением того, что он может и чего не может отобразить или предвидеть, как это делается сплошь и рядом. Такой список «про и контра» всегда будет открыт, не завершен, а, значит, подобный подход не схватывает явление в его сути. Только указание на ту область в производственных отношениях, из которой происходит «экономикс», решает эту задачу, давая критерий отнесения (или не отнесения) к «экономикс» любых теоретических взглядов и подходов.
Если убрать «эффект двойственности» остается лишь то, бесспорное, что есть перед глазами и что живое общество не может проигнорировать, нравится это кому-то или нет. Сосредоточившись на субъектных отношениях «экономикс», не делает ошибки, поскольку такой объект действительно существует. Он делает ее, некритично сводя объективную реальность только к реальности субъективных оценок и полагая, что этого вполне достаточно для понимания стоимости, цены, полезности, капитала, заработной платы и других феноменов социально-экономической жизни. Но одно дело пытаться понять, кто мы такие в реально существующих в каждый исторический период конкретных жизненных обстоятельствах. И другое дело – как следует, нужно и приходиться рационально вести себя в этих обстоятельствах, какие практические ориентиры для этого существуют.
В первом случае марксизмом из исторического процесса удалялся не только «абсолют» («Бог»), что делало трактовку этого процесса материалистической, но и отдельно взятый субъект. Поэтому автор «Капитала» и мог охарактеризовать цель своего сочинения как «открытие экономического закона движения современного общества» [19, с.10]. Последнее рождало политэкономию с акцентом на исторические формы социально-экономического развития. Во-втором, – ударение ставится на противоположной стороне общественного бытия, связанной с реальной активностью отдельно взятого субъекта, но в абстракции от исторических социально-экономических форм, которые определяют содержание этой активности. Речь здесь идет об области обыденного сознания, которым люди руководствуются в повседневном поведении, о стихийно складывающихся способах психологического и эмоционального приспособления к окружающей социально-экономической действительности. В итоге оказывается, что «экономикс», как его понимал А. Маршалл, – это политэкономия субъекта, его психофизиологических проявлений в процессе экономической деятельности, т.е. можно и должно вести речь о политэкономии хозяйствования, в широком смысле – управления (что всегда носит поведенческий характер и субъектно окрашено). Но неизбежно объяснения, которые предлагает эта политэкономия, отражают уже не объективные причины и свойства, относящиеся ко всем индивидам определенной социальной группы: они суммируют то, что есть непосредственно – субъективные мнения, а значит, и возможные иллюзии, трактуя также и их в качестве реально значимых событий5. Тем не менее, как уже отмечалось, мир порождаемых этой реальностью представлений далеко не беспочвенен, он объективно обусловленная видимость. Поэтому такие представления вполне пригодны, и даже необходимы, для практической ориентации человека. В силу этого они оказываются объектом научного интереса, продуцирующего возможность появления теоретического знания.
Актуальность исследования того, как люди распределяют ограниченные ресурсы, не может быть оспорена. Но не может быть оспорена и актуальность вопросов о том, откуда берутся и какова траектория исторического развития тех общественных форм (товар, капитал, наемный труд, деньги, процент, рента и т. п. – всего этого сухого царства необходимости), в которых выступают ресурсы, подлежащие распределению, какой социально-экономический процесс их порождает и как он исторически эволюционирует. В силу этого пока жив капитализм остается жива и характеризующая эту его сторону марксистская экономическая теория, делающая предметом своего интереса именно данную тематику.
Для Маркса было совершенно естественным, понимание не только противоположности, но и правомерности двух рассматриваемых подходов к процессам хозяйственной жизни. Доказывается этот факт, в том числе, содержанием критики Марксом противоречивой смитовской формулировки задачи политической экономии. С одной стороны, полагал Маркс, «великий шотландец» видел ее в изучении объективной природы производственных отношений, в отображении «физиологии буржуазной системы», а с другой, – в том, чтобы с пользой для «человека, который практически захвачен процессом буржуазного производства и практически заинтересован в нем» (в современной терминологии – для предпринимательских и государственных структур) «отчасти описать проявляющиеся внешним образом жизненные формы буржуазного общества, изобразить его внешне проявляющуюся связь, а отчасти – найти еще для этих явлений номенклатуру и соответствующие рассудочные понятия, т.е. отчасти впервые воспроизвести их в языке и в процессе мышления» [20, с.177—178]. Маркс, как видим, полностью воспринимает обе стороны смитовского понимания, и вовсе не отрицает необходимость выработки рассудочных понятий. Предметом критики здесь является не актуальность двух подходов, а их логическое соотношение. У Смита указывает Маркс, «один взгляд более или менее правильно выражает внутреннюю связь, другой же, выступающий как столь же правомерный (выделено – А.Л.) и без всякого внутреннего взаимоотношения с первым способом понимания, без всякой внутренней связи с ним, – выражает внешне проявляющуюся связь» [20, с.178], т.е. подчеркивает Маркс, «здесь получается совершенно противоречивый способ представления» [20, с.178]. Но это не потому, что отмеченные подходы автора «Богатства народов» исключают друг друга (их сосуществование как раз «правомерно»), а лишь потому, что взгляд со стороны хозяйствующего субъекта, который непосредственно имеет дело только с внешней, эмпирически данной стороной экономических отношений, формируется у Смита, стоит повторить, «без всякого внутреннего взаимоотношения с первым способом понимания, без всякой внутренней связи с ним».
Отсюда, спор о том, чем определяется меновое соотношение товаров: затратами труда (классическая политэкономия, включая марксистскую) или полезностью (неоклассика), ведущейся вне контекста двойственности социально-экономической жизни, при абстрагировании он нее, может идти бесконечно или (в принципе) до полного исчерпания самого феномена меновой стоимости в силу возможности апеллирования сторон к действительным, реально существующим, а вовсе не надуманным фактам хозяйственной жизни. Разрешен он, может быть, только на основе использования обоих определений путем постановки их с правильную логическую и историческую взаимосвязь.
Политэкономия перестала быть классической и превратилась в неоклассическую, когда перестала предметно ориентироваться на объективно протекающие в историческом времени процессы и замкнулась на проблеме рационального выбора тех или иных хозяйственных решений на основе непосредственно данных фактов. Оторвавшись от своей объективной основы и пытаясь нащупать закономерности на уровне конкретных форм проявления, т.е. на путях прямого объяснения этих поверхностных, превращенных форм производственных отношений из них самих, «экономикс» не преодолевает «совершенно противоречивый способ представления», а прямо продолжает эту традицию – без присущего, однако, Смиту стремления к поиску другой, объективной стороны.
В этом причина того явления, которое не укладывается в формальную логику, противоречит естественным представлениям, но парадоксальным образом сочетается: признание высокой ценности теоретических разработок в рамках «экономикс», вплоть до заслуженного присуждения отдельным представителям этого научного направления нобелевских премий, до столь же обоснованной констатации советской политэкономией [см.: 1] и в ряде случаев постсоветской [5, с.26] ее вульгарного характера. Понять это можно, если не упускать из виду то, что такого рода трактовки (на манер квадратуры круга) давались при рассмотрении буржуазной политэкономии соотносительно с политэкономией марксистской – с точки зрения способности выявить действительную исторически развивающуюся природу экономических явлений. И в этой критике, как представляется, ее авторы от истины не уклонились, ведь «экономикс» даже не видел надобности в подобной задаче. Она и не может возникнуть, поскольку органически свойственный «экономиксу» акцент на здравом смысле, рассудочных отношениях, формальной непреложности специальных знаний, почерпнутых из анализа лишь поверхностных явлений, всегда реально связан с абсолютизацией частной истины и превращения ее в существо дела, порождая, в связи с этим и околонаучную ложь, особенно если она оказывается идеологически востребована.
Но в любом случае, это только одна сторона дела, вовсе не дающая оснований для категорического утверждения о том, что в целом «Практическая применимость экономикс минимальна» [30, с.19]. Подобное утверждение решительно противоречит роли «экономикс» в качестве пусть и ограниченной, но реальной теории научно осмысляемой практики. В публикациях критиков буржуазной политэкономии советского периода общим местом было признание научно-практической значимости исследований многих талантливых западных ученых. Вот типичный пассаж на сей счет: «Практическую функцию буржуазной политической экономии в системе современного государственно-монополистического капитализма лучше всего характеризует то обстоятельство, что большая часть экономистов в настоящее время мобилизована на разработку методов регулирования экономики на уровне фирм, на уровне отрасли и в масштабах всего национального хозяйства, выдвигают рекомендации по капиталистической рационализации производства»6 [24, с. 143].
В границах, которые, исходя из принятой трактовки предмета, «экономикс» фактически сам для себя установил и в которых, опять же фактически, он существует, его теоретические подходы обоснованы и практически актуальны. Но, претендуя на абсолютную истинность своих базовых утверждений, и выходя для этого за пределы этих незримых границ, он становится вульгарен и обнаруживает свою недостаточность.
Имея своим предметом лишь объективную сторону производственных отношений, марксистская политическая экономия не только не охватывает всей проблематики этих отношений, но даже не может претендовать на это, поскольку существует другая – субъектно определяемая сфера этих отношений, которую параллельно осваивает «экономикс». Никакая экономическая жизнь, предполагающая реальное хозяйствование, невозможна без понимания событий, развивающихся в этой сфере, в том числе и по советской модели на основе директивной формы народнохозяйственного плана. «Экономиксовый» подход в силу этого с неизбежностью не только имел место в Советском союзе, но и развивался. Еще в период становления советской экономической мысли осознание лишь базовой, но не всеобъемлющей роли марксистской политэкономии пришло в форме постановки вопроса о развертывании совокупности конкретно-экономических наук, фактически реализующей «экономиксовые» функции7. Первоначально монопольное положение классической политической экономии в СССР было преодолено в результате возникновения и активного развития набора отраслевых, функциональных, региональных, страноведческих экономических наук, имеющих собственное (отличное от политэкономии) содержание, среди которых политэкономия оказывалась лишь «первой среди равных».
При этом политэкономия в СССР не была общей экономической теорией, в том смысле, что она не являлась абстрактным образом обобщенно выраженного содержания всей совокупности конкретных экономик: она имела свой предмет и совершенно конкретно его исследовала, добывая новое знание, не достижимое средствами других дисциплин. Нельзя, указывая на абстрактно-аналитический метод политической экономии, утверждать абстрактный характер самой этой науки. Метод-то ведь нужен как раз для получения совершенно конкретного знания, а не намеренного дистанцирования от действительности. Суть данного вопроса в том, что в рамках изучения своего предмета, политическая экономия такая же конкретная наука, как и любая другая, относимая к категории конкретных, которые постигают свой специфический предмет собственными методами, в том числе и общенаучным методом абстракций, как это неизбежно происходит и в «экономикс»8. У каждой науки свой уровень и содержание конкретности. Если в политэкономии что-то не доработано, существует в достаточно абстрактном состоянии, то это не закономерность, не специфика данной науки, а проблема и головная боль ее разработчиков, в силу тех или иных причин, не доведших дело до логического конца, т.е. до исчерпания конкретного понимания предмета. Вот почему Г. Х. Попов не прав, когда говорит: «Я всегда считал: отличие политэкономии от той науки, которой я занимаюсь (от управления), в том, что она – наука на уровне абстрактного анализа. С этой точки зрения, мне представляется, сравнивать ее с „экономикс“ – значит отождествлять совершенно разноплановые вещи. Это все равно, что сопоставлять теоретическую биологию с какими-то предметами по медицине» [[6, с. 443].
Последнее сопоставление было бы действительно некорректно, но не в силу того, что указанные Г. Х. Поповым науки различаются по научным требованиям к уровню их конкретности, а исключительно в силу специфических особенностей их предмета (биология и отдельные медицинские дисциплины), делающих подобное сопоставление неуместным. По этой причине столь же неуместно, принимая во внимание качественное различие предметов, сопоставлять марксистскую политэкономию и «экономикс», судить о том, какой из этих предметов шире или уже9, при том, что по уровню конкретности они ничем как науки друг от друга не отличаются.
Каждая из двух политэкономий в силу двойственности социально-экономической жизни имеет свою особую нишу, сформированную характерным только для нее состоянием производственных отношений. Фундаментальная важность данного обстоятельства требует уточнения верной по своей целевой направленности мысли В. Н. Черковца о том, что две политэкономии воплощают с известной долей условности «принцип параллельного освещения с разных концептуальных позиций одного и того же предмета (одних и тех же его частей)» [3, с. 58]. Но вот части-то в силу двойственности изучаемого предмета как раз разные. Поэтому закономерно, под специфику каждой части, потребовались разные методологии, а в силу этого возникли и разные теории. Эти теории отвечают на разные вопросы, задаваемые каждой составной частью социально-экономической жизни, и поэтому, как и должно быть, дают не одинаковые, а разные ответы.
В данной связи также ввиду «эффекта двойственности» в уточнении нуждается и мысль В. Н. Черковца о характере разделения научных сфер двух политэкономий: «Фундаментальными, сущностными слоями, – отмечает он, – могла бы „ведать“ трудовая теории стоимости, а их проявлениями, функциональным взаимодействием элементов непосредственной практики хозяйствования (хозяйственным механизм) – теория предельной полезности» [6, с. 65]. При таком толковании «экономиксу» отводится то место, которое он действительно занимает в процессе познания – внешние, наглядные формы. А вот марксистская политэкономия сводится к абстрактной теории, безразличной к формам проявления изучаемой сущности, поскольку там уже сфера другой науки. Но, как хорошо известно, сущность не может быть теоретически освоена без понимания того, как она проявляется, поскольку только через логически последовательно проведенный восходящий процесс полной конкретизации она превращается из «скрытой» истины в истину системно «вскрытую». Поэтому марксисткой политэкономии совершенно не безразличны внешние, непосредственно данные, поверхностные слои производственных отношений, но только в том их виде, в каком они отвечают задачам раскрытия объективной стороны этих отношений. Ни больше, и не меньше. С учетом «эффекта двойственности» «экономикс» и марксистская политэкономия различаются не своей исследовательской принадлежностью к разным слоям структуры производственных отношений (в одном случае к абстрагировано сущностным, в другом – к внешне конкретным), а разной теоретической позицией в отношении смысла внешне данных форм: объяснять их в качестве форм проявления скрытой в них сущности или трактовать как самостоятельное событие, объясняемое из самого себя.
В этой связи весьма показательна позиция крупного ученого и практического специалиста в области экономики труда В. Д. Ракоти, отраженная в его последней монографии. Воспроизводя присущее классической политэкономии объективизированное определение стоимости рабочей силы, «тем, что необходимо рабочему для жизни и воспроизводства последующих поколений носителей способности к труду», В. Д. Ракоти справедливо замечает: «Указанное определение стоимости рабочей силы очевидно достаточно для политэкономии. Однако также очевидно, что для экономики труда с ее более конкретным и детальным исследованием процесса использования способности трудиться такое определение слишком скудно» [27, с. 46]. Рассматривая далее стоимость рабочей силы уже в рамках предмета экономики труда, где субъекты-носители рабочей силы перестают быть обезличенными и приобретают значимые индивидуальные особенности, он отмечает, что «стоимость своей способности к труду каждый работник определяет исходя из… индивидуальной совокупности условий существования и развития. Поэтому стоимость наемного труда по сути дела субъективная (выделено – А.Л.) категория» [27, с. 46].

