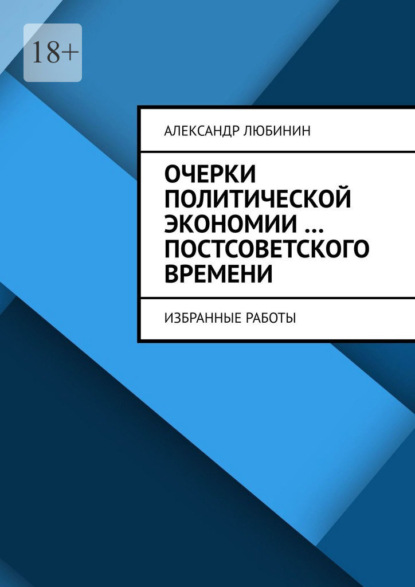
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
То же самое получается при трактовке спроса. Спрос, как адекватное системе товарного хозяйства платежеспособное выражение общественной потребности в конкретных потребительных стоимостях, непосредственно представляет собой определенную сумму денег, полученную за уже реализованные товары, ранее созданные в производственном процессе (распределяемую сегодня по многообразным каналам между рыночными субъектами – физическими и юридическими лицами, включая государство); больше этой денежной массе взяться неоткуда. Содержащаяся же в цене произведенных товаров «кристаллизованная» трудовая субстанция (затраты живого и овеществленного труда) независима от «модуса» любых субъективных устремлений к каким-либо покупкам11. Поэтому спрос всегда в итоге оказывается ограниченным количественными параметрами этой субстанции. Отсюда все известные средства госстимулирования искусственного расширения спроса, раньше или позже наталкиваясь на это объективное ограничение, становятся катализаторами различной глубины финансово-экономических кризисов (новейшие потрясения в национальных и глобальном хозяйствах – одно из тех подтверждений). «Доверие и оптимизм потребителей» имеют здесь, конечно же, важное значение, но лишь в роли дополнительных, действующих в некотором временном интервале, факторов, не спасающих вне приведения распределения, в том числе и через кризис, затрат общественного труда по отраслям народного хозяйства (лежащего в основе соотношения спроса и предложения) в определенное равновесное состояние.
«Экономикс» изначально теория буржуазной практики со всеми вытекающими отсюда следствиями для трактовки ее социально-экономического содержания. Но с опорой на эту теорию, основные постулаты которой признаются незыблемыми, эта практика выражалась в неоднозначной экономической политике. Ее сегодняшние варианты, в том числе в нашей стране, сильно отличаются от того, какие социальные идеи вынашивались отцами-основателями «экономикс». Сегодня «экономикс» воспринят и излагается совершенно не в том виде, в каком он родился. Это полезно знать и помнить, когда решается вопрос об ответственности «экономикс» как науки за проводимую социально-экономическую политику. Тут часто «экономикс» как наука отождествляется с его вольными и предвзятыми трактовками в виде экономической политики рыночного фундаментализма. Но А. Маршалл и его поколение ученых-экономистов вовсе не были асоциальными людьми, как это может показаться при прочтении работ их современных последователей. «Главная задача экономической науки в наше время, – писал он, – заключается в том, чтобы содействовать решению социальных проблем» [21, с. 100]. По оценке основоположника кейнсианства, «Маршалл труд своей жизни посвятил переработке науки «политическая экономия» в науку о «социальном усовершенствовании» [см.: 21, с. 33]. Сравним это с эпатажным высказыванием одного из авторитетных «гуру» рыночного абсолютизма: «Я не считаю, что получившее широкое хождение понятие «социальной справедливости» описывает какое-то возможное положение дел или хотя бы вообще имеет смысл… Прилагательное «социальное» («общественное») … вероятно, стало самым бестолковым выражением во всей нашей моральной и политической лексике» [см.: 35, с. 17, 197]. Все это говорит о том, что рынок одновременно и форма прогрессивного саморазвития общества, и форма глубокого предрассудка, когда эта роль рассматривается вне исторически, абстрактно и абсолютизируется вопреки складывающимся социальным (а также национальным) императивам.
В классической неоклассике этого нет. Близко знавший А. Маршалла Кейнс свидетельствовал о том, что первый «был знаком с работами немецких экономистов, в том числе Маркса и Лассаля» [см.: 21, с. 16]. И хотя в Маршалловых текстах нет ни анализа их позиций, ни даже упоминания их имен, не исключено, что не без влияния антибуржуазного настроения этих «немецких экономистов», он посчитал необходимым обратить внимание на следующее: «В действительности почти все создатели современной экономической науки, были людьми благородными и благожелательными, проникнутыми чувством гуманности. Они мало заботились о богатстве для себя лично, но много внимания уделяли широкому его распространению среди народных масс.., были приверженцами доктрины, согласно которой благосостояние всего народа должно быть конечной целью всей частной деятельности и всей государственной политики (сравним с идейными установками нашего времени, особенно в период „лихих 1990-х“! – А. Л.). Но они проявляли и большую смелость и большую осторожность: они казались безучастными, так как не брали на себя ответственность за отстаивание быстрого продвижения по неизведанным путям, ибо единственной гарантией безопасности таких путей служили лишь доверчивые надежды людей, обладавших пылким воображением, не охлажденным знанием и не приведенным в систему глубокими размышлениями» [21, c. 105].
В этих словах, подтвержденных всей научной жизнью и практической деятельностью их автора (принимавшего, в частности, участие в работе различных правительственных и неправительственных институтов, занимавшихся социальными вопросами) выражена вечная проблема выбора между радикальным и консервативным способами осуществления назревших социальных изменений, между революцией и реформой, даже если это реформа по А. Маршаллу определенной направленности – во имя «благосостояния всего народа». Предупреждение А. Маршалла, конечно, уместно. Одна из возможных ошибок всех революционеров – склонность переоценивать свои силы, сложившуюся историческую обстановку, умонастроение своих современников. Тянуть цветок руками вверх, чтобы он быстрее вырос, руководствуясь лишь субъективной волей, – это легко возникающая детская болезнь избыточного социально-экономического радикализма.
Тем не менее, из этой правильной мысли не должны делаться категорические и односторонние выводы. Наука, конечно, дает предостережения и учит смирению перед действительностью, но вместе с тем именно знание, которое она дает, развязывает руки для наполнения предвидения будущего конкретным содержанием и, значит, формирует реальные основания для правильных, имеющих полные шансы на успех, действий.
Характеризуя социальную позицию А. Маршала, Кейнс писал, что «глубокое сочувствие социалистическим идеям совмещалось, однако, со старомодной верой в могущество сил конкуренции» [21, с. 33]. Это, конечно, способствовало возникновению теории, в которой, чтобы не думал ее автор, «погашены» классовое противостояние и взрывающие системное единство социальные противоположности, которые, как известно, в ряде современных работ считаются полностью преодоленной исторической формой. Но последнее хорошо лишь для целей самоуспокоения, поскольку здесь политически возможное, выдается за политически уже достигнутое. Фактически у А. Маршалла экономическая теория как оправдание существующего порядка примеряла его с собственными неудовлетворенными этическими взглядами. Сам он объяснял это так: «От метафизики я перешел к этике и считал, что трудно оправдать нынешние условия жизни общества. Один мой друг постоянно твердил мне: ах, если бы разбирался в политической экономии, ты бы так не считал» [21, с. 9]. Экономическая теория, делающая, по разделенной А. Маршаллом мысли его знакомого, нравственные ценности лишь личным, субъективным, поскольку они не вытекают из ее содержания, делом каждого, позволяет трактовать содержание теории предельно асоциально, ведь рынок сам по себе не имеет социальных целей, они отсутствуют в его назначении. Опуская гуманные аспекты науки (в том числе «экономикс»), которые по А. Маршаллу, последняя обязана вносить в жизнь в качестве своего естественного предназначения, не сложно основывать на этом экономическую политику, по существу, обслуживающую интересы лишь ограниченной части общества, чем является по своей сути современный крутой неолиберальный перегиб в экономике. Так всегда бывает с крупными социальными учениями. Со временем к интеллектуальному ресурсу их создателей подключается демагогический ресурс последователей-эпигонов, мешающий адекватному восприятию возникших теорий и вне всякой меры их политизирующий.
Но пример А. Маршалла показывает, что не следует категорически полагать будто бы сочетание экономиксовых взглядов и элементов критического отношения к капитализму как социально-экономической системе, проведение социально ориентированной экономической политики несовместимо в принципе. «Права собственности, – в опровержение этого писал он, – вовсе не были предметом поклонения для великих мыслителей, которые создали экономическую науку, но авторитет этой науки незаконно присвоили себе те, кто возводит укоренившиеся права собственности в крайнюю степень и использует их в антиобщественных целях (написано, как будто о „героях“ постсоветского экономического реформирования, – А.Л.). Можно поэтому подчеркнуть, что строгое экономическое исследование должно основывать права частной собственности не на некоем абстрактном принципе, а на том факте, что в прошлом они были неотделимы от неуклонного прогресса» [21, с. 106]. Говоря современным языком, демократия и права человека носили для ученых поколения А. Маршалла характер ценностей, приоритетных по отношению к сугубо рыночным, т. е. рынок, по их устойчивому убеждению, это не цель, а средство. Поэтому, исходя из приоритета цели, он не должен наносить ущерб правам человека, и призван уступать там, где в результате «неправильного понимания и неправильного использования экономической свободы» [21 с.106] эти права ставятся под угрозу ради рынка12. Добавим от себя на злободневную у нас тему: ради макроэкономической стабильности рынка, главным инструментом обеспечения которой считается сжатие денежной массы, что делает такую стабильность не в абстрактной теории с ее специальными допущениями и ограничениям, а в реальной жизни, недостижимой.
Результаты более чем 20-летней подобной практики тому полное доказательство. Финансовая политика в нашей стране всегда была направлена своим острием на преодоление высокой инфляции. Однако положительных результатов, как и обозримых перспектив их достижения, нет, зато есть вызванная такой политикой закупорка кредитования реального сектора. Но если нет денег (особенно длинных пассивов у предприятий), – нет инвестиций. Нет инвестиций, – нет развития. Нет развития, – есть неизбежная социально-экономическая стагнация (двадцать лет темпы экономического развития в пределах одного процента), создающая нарастающие трудности в реализации внутренних и международных задач государства, которые становятся только более сложными и ответственными. С позиций национальных интересов такой страны как Россия губительно видеть главные основания экономического роста в факторах, которые формируются вне ее, в глобальной экономике: прежде всего в возможном благоприятном изменении мировых цен на сырьевые ресурсы и курса валют, вместо и в ущерб последовательной и настойчивой работы по формированию внутренних системных механизмов и приоритетных национальных источников роста. Стране, как и каждому человеку, отводится определенное историческое время, в которое надо успеть уложиться, если дорога собственная самобытность. Так или иначе, но историческая Россия при всех формах правления справлялась с этой задачей. Пассивное во многом ожидание нынешними властями лучшей внешнеэкономической конъюнктуры, сопровождаемое по большому счету лишь призывами к инновациям и модернизации, всегда чревато тем, что отведенное стране историческое время будет упущено.
Возможность некоего ренессанса политэкономии вызвала в нашей стране немало взволнованных толков и пересудов в среде преподавателей политэкономии дала дополнительный импульс к созданию учебных курсов и подготовке пособий, содержащих попытки найти точки соприкосновения, какие-то рациональные «стыки» двух основных течений современной экономической мысли. Отдельным нашим активным авторам современная экономическая теория видится объединяющей («синтезирующей») неоклассическую и марксистскую политэкономию под неким «старым новым» названием. Можно понять смятение преподавателей высшей школы: оставаясь в профессии, им пришлось подобно театральным актерам вживаться в навязываемые новой идеологической и теоретической парадигмой обстоятельства и начинать так или иначе (более или менее комфортно) в них существовать. Но, как по некоторым воспоминаниям втолковывал Маркс, не принуждайте к поцелую то, что противоречит друг другу».
Здесь, представляется уместной следующая аналогия. Все понимают: нелепо ожидать, что артисты балета откажутся от своего особого сценического языка – танца, перестанут двигаться, замрут и начнут петь. Однако не исключено, что кто-либо из театральных модернистов-постмодернистов уже вынашивает подобные планы или даже осуществил их, ибо побудительный творческий мотив здесь заключается единственно в том, чтобы сделать то, чего еще не делал никто. Но в итоге будет испорчен балет, а полноценная опера не возникнет. В любом случае это станет лишь механическим сопряжением разных театральных жанров, а не созданием нового «синтетического» жанра – настолько велики различия в профессиональной подготовке и физических данных исполнителей, характере музыки, сценических костюмах, эстетике, и т. д.
Сегодня уже можно посмотреть, что из попыток подобного принуждения к «синтезированию» разнородной экономической мысли получилось. Но, принимаясь за такую работу и оценивая ее результаты, представляется необходимым, прежде всего, ответить на вопрос: существует ли в принципе возможность научного сведения воедино столь непримиримо и воинственно настроенных в отношении друг друга течений современной социальной мысли?
Ответ на этот принципиально значимый вопрос, связанный, конечно, не только с преподаванием, но и с ходом научных исследований, думается, не может быть найден при оперировании только теми представлениями о марксистской политэкономии и неоклассике, которые определяются их возникшим историческим спором за научный приоритет, за право быть единственным носителем истины в экономической теории. Работы авторов, в разное время сопоставлявших марксистскую политэкономию и «экономикс» [см.: 3], независимо от того, к какой из этих двух политэкономических систем они себя относят, рассматривают только эту, конфронтационную, линию их взаимоотношений (речь идет о размежевании классики, включая марксизм, и неоклассики, наметившемся вместе с появлением обеих политэкономий и детерминирующем необходимость выбора между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности со всеми вытекающими отсюда теоретическими и практическими следствиями). Но при очевидности наличия реального научного содержания у этого спора, при несомненной теоретической его оправданности он не исчерпывает всей проблематики взаимоотношений двух политэкономий.
Дело в том, что во взаимоотношениях двух наук выделяются не один единственный, а минимум два разных плана: первый, проходящий через всю историю экономической мысли, где обе политэкономии конфликтно сталкиваются, отстаивая прежде всего истинность своих исходных посылок, и второй, где каждая политэкономия остается «при своих» и выступает со стороны своей предметной специализации. Причем, если в первом плане, связанном с «борьбой на уничтожение», искомый результат не может быть достигнут (противоборствующие стороны продолжают надеяться на обеспечение своей монополии на теоретическом поле), то второй лишен конфронтационности: здесь у каждой политэкономии своя научно-практическая сфера (т.е. в принципе может, и, думается, должен быть поставлен вопрос о сотрудничестве).
Органически синтезировать две политэкономии в одну невозможно в силу принципиального различия предмета: все такого рода попытки приходится признать ненаучно-утопическими [см.:29]13. Но их, образно говоря, неорганический синтез – в смысле использования разнокачественных теоретических результатов обоих наук, несводимых в единую политико-экономическую теорию, – представляется и возможным, и необходимым. Только он, думается, сулит перспективу преодолеть серьезные проблемы современного этапа мирового развития, увидеть контуры качественно новой модели этого развития – уже не в черно-белой проекции, как раньше (в дихотомии «план или рынок», «частная собственность или общественная), а в действительно переходной реальности. Для этого нужны обе политэкономии и четкое понимание того, за какую сторону социально-экономической жизни общества каждая из них отвечает.
Рыночная экономика сильна тотальной самововлеченностью субъектов в процесс хозяйственной жизни, нацеливая их только, как им кажется, на эффективные действия. Но исходящая отсюда рациональная активность людей отправляется от стихийно формирующейся и к тому же многоголосой информации, которая поэтому противоречива, приходит с опозданием, переменчива и политически уязвима. Сам рынок при этом ни в одном из своих проявлений в каждый данный момент не подает ложных сигналов: все они истинны, правдивы по своему происхождению, даже если имеет место манипулирование рынком. Фундаментальная рыночная неопределенность феномен не рынка, который всегда таков, каков он есть, а устойчивое состояние знаний о нем ввиду указанных выше причин. В таких условиях сам того не желая, эффективный субъект (государство, собственник, менеджер и т. п.), не имея возможность контролировать ход технического, научного и экономического развития всегда рискует и нередко обрекается быть неэффективным, после чего он начинает новый поход за «птицей счастья», повторяя весь цикл.
Границы, через которые «экономикс» перешагнуть ныне не может, несмотря на всю силу ума ее создателей, целиком определяется тем, что он исчерпал возможность развития экономической теории на базе субъективного подхода, разработав до артистического уровня те аксиомы, которые из него вытекают. Предельная полезность как ведущий принцип этой науки закономерно породила предел ее полезности, поскольку рамки теоретической и практической значимости «экономикс» задаются обращением к исследованию лишь внешне данных форм, а значит уже свершившихся фактов, в которых «погашен» тот действительный подводящий к ним процесс, без учета которого явление не может быть вполне адекватно понято.
Достоинства рыночной системы оборачиваются крутым недостатком, который нельзя коренным образом исправить регулирующими действиями государства. Последние, всякий раз сдерживая далеко зашедшую разрушительную войну «всех против всех» с ее экономическими и социальными последствиями, всегда вынужденно ограничивают главную движущую силу рынка – конкуренцию. Со временем положительный эффект регулирования (в зависимости от жесткости такого рода мер), так или иначе, рассасывается, а отрицательный эффект ограничения конкуренции накапливается и оборачивается торможением экономического роста со всеми его социально-экономическими последствиями, оживляя неоклассические идеи, за «спиной» у которых привычно, теперь уже, ждут своего часа теории кейнсианского толка. Все они, и первые, и вторые, связав себя с позитивизмом, не содержат теоретического аппарата выхода за пределы этой методологии, а значит, из того круга идей, без фундаментальной критики которого будет происходить неизбежное, но совсем не обязательное, топтание на месте. Тут требуется другая политэкономия.
Принимая это во внимание, обеим политэкономиям ввиду их обоюдной необходимости бессмысленно соревноваться за «мейнстримную» позицию и «отжимать» друг друга в борьбе за нее. Исключительное положение любой из них означает снижение уровня экономической науки в целом, что имело место в осознаваемом теперь прошлом и продолжается в настоящее время. Ренессанс политэкономии, который неизбежен, это не оскопление марксисткой политэкономии для ее увязки с «экономиксом» (попыток чему несть числа), а развитие собственного содержания обеих политэкономических наук. После всего пережитого и переживаемого современным обществом текущее время располагает некоторым потенциалом для этого.
Библиографический список
1. Альтер Л. Б. Избранные произведения. Критика современной буржуазной политической экономии. – М., 1972.
2. Альтюссер А. Ленин и философия. – М.: Издательство «Ад Маргинем», 2005.
3. Бем-Баверк Ойген. Критика теории Маркса. – М.: Социум, 2002;
4. Бузгалин А. В. «Классическая политэкономия: путь в университеты». Вопросы политической экономии. 2015. №1. —С. 8.
5. Воейков М. И. Рыночный фундаментализм, и новая волна вульгаризации в экономической науке. Вопросы политической экономии. 2015, №1.
6. Дзарасов С. С. Сквозь призму перемен. В кн. «Судьба политической экономии и ее советского классика». Авт. Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
7. Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. – М., 1967.
8. Э. В. Ильенков. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984.
9. Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т. 18.
10. Лившиц М. А. Varia. – М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2010.
12. Мамардашвили М. Опыт физической метафизики. – М.: Издательство «Прогресс-Традиция» – Фонд Мераба Мамардашвили, 2009.
13. Мамардашвили М. К. Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра. В кн.: Современный экзистенциализм. Критические очерки. – М., 1966;
14. Мамедов О. Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа. Вопросы политической экономии. 2015, №1.
15. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Книга I. – М.: Республика, 1993.
16. Мареев С. Н. Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков. —М.: Культурная революция, 2008. – (AESNTNICA).
17. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. «2-е изд. – Т. 1.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 13.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. «2-е изд. – Т. 23.
20. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 26. – Ч. 1.
21. Маршалл М. Принципы экономической науки. Т. 1. – Издательская группа «Прогресс», 1993.
22. Проблемы дальнейшего развития методологии и теории политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – М., 1975.
23. Пороховский А. А. Цивилизационное значение политической экономии. Российский экономический журнал. – 2015. №3.
24. Проблемы дальнейшего развития методологии и теории политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – М., 1975.
25. Розенберг Д. И. К вопросу о классификации экономических наук//Вестник Коммунистической Академии. – 1933.– №5—6.
26. Рокмор Т. Маркс после Маркс: Философия Карла Маркса. – М.: «Канон» +» РООИ «Реабилитация, 2011.
27. Ракоти В. Д. Наемный труд: стоимость, цена, прибавочная стоимость. – М.: Финансы и статистика, 2015.
28. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. – М., 1964.
29. Сорокин А. В. Теория общественного богатства. Основы микро- и макроэкономики: Учебник. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009.
30. Сорокин В. А. Политическая экономия и экономикс: один предмет, два метода. Вопросы политической экономии. 2015, №3. С. 13, 17.
31. Теория капитала и экономического роста: Учебное пособие / Под ред. С. С. Дзарасова. – М.: Издательство МГУ, 2004.
32. Тронев К. Категория рыночная стоимость и рыночная цена в 111 томе «Капитала» К. Маркса. // Российский экономический журнал. – 2004, – №1
33. Фромм Э. Искусство любить. 2-е изд. – СПб.: Азбука классика, 2004.
34. Хазин М. Капитализм силится доказать свое право на вечное существование.
35. Хайек Ф. «Пагубная самонадеянность. Изд-во «Новости». 1992
36. Черковец В. Политическая экономия как наука: историческая тенденция и социальная востребованность//Российский экономический журнал. – 1996. – №3.
37. Черковец В. Н. Первый элемент системы экономический наук (еще раз по поводу 200-летия преподавания в России политической экономии и к оценке новейших дебатов о ее современной роли и вузовском статусе. // Российский экономический журнал. – 2005. – №5—6.
38. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – Экономика, 1991.
Очерк 2. Построение социализма в одной, отдельно взятой, стране и критическая эволюция социалистического идеала
Советский Союз больше не существует. Уходил он совсем не героически, без тяжелых оборонительных боев за каждую пядь советской страны. При этом армия, затаившаяся в местах своей дислокации, полностью сохраняла боеспособность. Приказ выполнить свой конституционный долг по защите государственного строя она так и не получила. Подобным образом, смиряясь с неизбежным, уходят люди, пораженные тяжелым внутренним недугом, консервативное лечение которого в силу самых разных причин было мало результативным, а других, более действенных, методов разрешения возникшей ситуации найдено не было.

