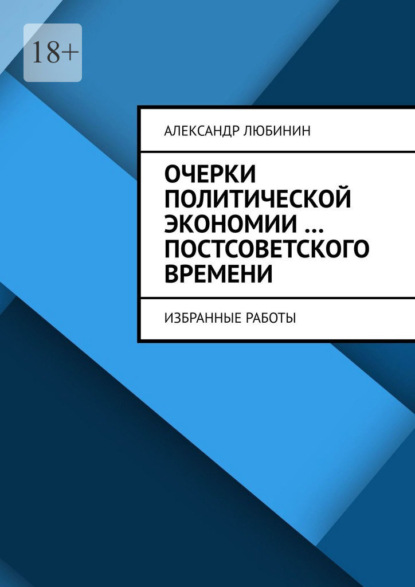
Полная версия:
Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы
Конечно, стоимость рабочей силы не такова как ее субъективно оценивает каждый отдельный работник: рынок такие оценки игнорирует, приводя их к какой-то общей усредненной норме. Но понять, с каких конкретных уровней, исходя из чего это невидимое глазу усреднение происходит, для того чтобы обозначить некий общественно-значимый ориентир для различных категорий работников, специалисту по экономике труда, разумеется, необходимо. Именно это его профессиональная задача, на которой акцентирует внимание читателей В. Д. Ракоти. Вот только связанный с ее решением обоснованный учет различных субъективных оценок, не должен вести, как в «экономикс», к сведению объективной реальности к реальности лишь субъективных оценок и констатации «по сути» субъективного характера экономических категорий, в том числе стоимости рабочей силы. При таком подходе происходит не развитие и обогащение понятия рабочей силы, на котором останавливается политэкономическая классика в связи с ненужностью с точки зрения ее предмета чего-то большего, а полное отрицание этого понятия и его замена
Принимая это во внимание, обеим политэкономиям ввиду их обоюдной необходимости бессмысленно соревноваться за «мейнстримную» позицию и «отжимать» друг друга в борьбе за нее. Исключительная позиция любой из них означает снижение уровня экономической науки в целом, что имело место в осознаваемом теперь прошлом и продолжается в настоящее время. Ренессанс политэкономии, который неизбежен, это не оскопление марксисткой политэкономии для ее увязки с «экономиксом» (попыток чему несть числа), а развитие собственного содержания обеих политэкономических наук. После всего пережитого и переживаемого современным обществом текущее время располагает некоторым потенциалом для этого.
В конкретных экономиках советского времени трудно было увидеть подобие «экономикс» с его сложившейся структурой и содержанием. Но ведь иначе и не могло быть, поскольку коренным образом отличались социально-экономические условия, определяющие представления о формах и характере процессов хозяйствования, особенно в довоенный период, и после войны до начала 60-х гг. Но по мере выдвижения на передний план не только насущных задач в сфере производства средств производства и ослабления мобилизационного режима хозяйственной жизни, безотлагательного требования ее ориентации на повышение жизненного уровня населения, сближение по ряду тем с «экономикс» становилось все более неизбежным. Это выражалось в разработке советской экономической наукой проблем потребностей, спроса, ценообразования, управления производством и финансами на разных уровнях, в развитии экономико-математических исследований и росте их авторитета.
Система экономических наук, которая естественно складывается на базе марксисткой политэкономии, охватывающая и объективную, и субъективную стороны, в принципе невозможна на почве «экономикс», поскольку весь спектр порождаемых им теорий выражает только одну сторону производственных отношений – субъективную. Если в первом случае система наук возникает из живой связи объективной стороны экономической жизни с формами ее практической реализации субъектами хозяйственных процессов, то для «экономикс» подобной связи в силу его специфики не существует вообще: считается, что сами непосредственно данные формы несут в себе все необходимое для науки, и формулируемый М. Мамардашвили вопрос о том, что «это значит, а что это на самом деле и что есть независимо от… слов и представлений, какова на самом деле будет фактическая связь, или фактическая закономерность, на основе которой и развернется человеческое действие, имеющее или дающее тот или иной результат», исключается. Это какое-то трудно объяснимое, особенно с познавательной точки зрения, и потому весьма любопытное отсутствие любопытства к сути дела, в чем никак нельзя отказать марксизму.
Возможность выделения основы «экономиксовых» наук (подобно политэкономии в марксистской системе экономических наук) затрудняется еще и в связи с тем, что предмет «экономикс» безмерен. В него попадает едва ли не все, связанное с хозяйственной сферой и влияющее на нее. «… Чем меньше мы предаемся схоластическим изысканиям на тему, относится ли то или иное положение к предмету экономической науки, тем лучше» [21, с. 84], – полагал А. Маршалл. Не стоит поэтому удивляться тому, что нобелевские премии по экономике нередко присуждаются за исследование объектов, далеко выходящих за сферу собственно экономики. Все это нормальное проявление «экономиксовых» подходов, как и то обстоятельство, что брендовые высшие школы экономики в нашей стране и в мире представляют собой многопрофильные научно-педагогические «универмаги», где представлены все основные сферы социальной жизни.
В таких обстоятельствах создать логическую обоснованную классификацию экономических наук, выделив в ней базовую, теоретическую часть, невозможно. Не случайно А. Маршалл определял место экономической науки в системе общественных наук [см.: 21, с.70], но даже не ставил вопрос о месте политэкономии в системе экономических наук, которую он, видимо, по крайней мере для того времени, не представлял структурно организованной. Поэтому любые классификации здесь могут носить и носят конвенциональный характер: как договорятся причастные (у нас властные) стороны, так и будет. В России договорились (решили) о существовании общей экономической теории. Но эта теория не имеет собственных научно очерченных границ и использует условные, искусственные границы, которые нужны лишь для формального разграничения номенклатуры научных специальностей и в качестве контура для вводного курса в рыночную экономику. Самостоятельного ценностного научного содержания, подобного марксистской политэкономии в системе экономических наук, в отличие от того содержания, которое представлено в соответствующих частных теориях, она не имеет. Реальность такого положения сегодня формирует «мнение не только многих политиков и бизнесменов, но и части исследователей, согласно которому возникающие в экономике и обществе проблемы можно решить без общей экономической теории, опираясь только на конкретные – отраслевые и прочие экономические науки» [см.: 23, с. 82].
Отметивший наличие такого суждения А. А. Пороховский считает его неправильным. Можно понять руководителя кафедры политэкономии всерьез обеспокоенного состоянием преподавания экономической теории, ведь в качестве нее должно предлагаться что-то базовое, а в нынешних обстоятельствах, это что-то нужно называть «общая экономическая теория». Но понятно и то, что важные и ответственные задачи преподавания, не могут диктовать форму структуризации преподаваемой науки. Это учебная дисциплина может быть общим курсом экономической теории, названным в текущей преподавательской практике общей экономической теорией или как-то еще. Но чтобы такого рода теоретический сегмент выделился в структуре самой науки, требуется не факт проявления одних и тех же закономерностей в различных направлениях и сферах хозяйственной жизни, а специфические особенности предмета науки (в данном случае общей экономической теории), реально, а не условно, дифференцирующие полученное знание в виде отдельных теорий. Делая своим предметом исследование мотивации во всех ее аспектам, и проводя эту линию в отношении анализа всего набора экономических явлений, дифференциацию по предмету, требуемую для общей экономической теории, в «экономикс» получить нельзя.
Гегель определял философию как мысль своего времени. Проблема, однако, в том, что философских теорий, рождаемых своим временем, всегда как минимум больше одной, особенно применительно к философии социальной. К середине XIX столетия главными выразителями мировоззренческих поисков своего времени стали два философских направления: разработанная уникальным прилежанием Маркса диалектико-материалистическая линия, имеющая глубокие и прочные корни в немецкой классической философии, и линия, в конечном счете, идеалистического толка (с выделением ряда течений, включая позитивистское), которой мир обязан французским и английским философам10. В этом отношении на марксистской политэкономии в исходном ее пункте «стоит печать» диалектико-материалистической философии, а политэкономическая неоклассика изначально связала себя с позитивистской философской традицией и соотносимой с ней формальной логикой, что было акцентировано А. Маршаллом [см.: 21, с. 67]. В более близкое нам время, вторя А. Маршаллу, Ф. Хайек писал: «Позитивизм определяется как точка зрения, согласно которой все истинное знание научно, в том смысле, что оно описывает сосуществование и последовательность наблюдаемых явлений… Как утверждал Гете все, что мы принимаем за факты, уже есть теория: то, что мы „знаем“ об окружающем мире, – есть уже наше истолкование его» [35, с. 139, 136].
Содержание какой угодно теории, в том числе и любой социальной, полностью определяется принятой методологией: какая методология такая и теория. В этом смысле вся идейная борьба на фронте того, что сейчас стало пониматься под общей экономической теорией, по сути своей есть борьба, провоцируемая разными методологическими установками, независимо от того, осознается это и принимается во внимание или нет. Такое положение складывается в связи с тем, что методология сама есть определенная теория, своеобразие которой в том, что она всегда реализует себя в предметном мире другой теории, оказываясь представленной по этой причине в каждом ее элементе. Если задача науки заключается в постижении объективной истины, то ближе к ней, при прочих равных условиях, оказывается та теория, методологическое оснащение которой, в свою очередь, полнее и глубже отражает эту самую истину. Все эти по большому счету тривиальные на сегодня утверждения, которые проходят по ведомству философской науки, в полной мере неизбежно определяют современное состояние экономической науки и, конечно, всю историю ее развития, вызывая появление различных школ и течений, с их совсем не совпадающими зачастую выводами в отношении одних и тех экономических явлений.
Для Маркса построению его экономической системы, углублению в собственно экономическую проблематику предшествовала работа по выработке нового философского взгляда на мир, новой теории познания, в связи с чем, имея в виду диалектику, Маркс открыто объявил себя учеником Гегеля. Акцент на философскую сторону дела в работах Маркса столь заметен и продуктивен, что, оценивая научные заслуги Маркса, ряд зарубежных и отечественных исследователей готовы видеть в нем, прежде всего, «одного из самых значительных, но наименее понятых философов», а не экономиста [26, с. 30].
Совсем иначе в этом отношении выглядит творческий путь А. Маршалла. Его мировоззренческие ориентиры типичны и традиционны для британского ученого своего, да, пожалуй, и нынешнего времени, настолько они устойчивы. Английская философская школа (как и французская) не заметила Гегеля и всей прочей «ученой дремучести» немцев с их диалектической картиной мира. В отличие от Маркса философия как основание методологии научного анализа не стала специальной областью интересов А. Маршалла, в зависимость от которой ставились бы экономические исследования: его занятий философской этикой для этого было недостаточно. Для высокого научного сообщества, которому принадлежал А. Маршалл (а это на протяжении всей его творческой жизни Кембридж), подобная необходимость отсутствовала как таковая. Принцип логического позитивизма как ведущий принцип естественно-научного мышления, ставящий превыше всего практический опыт, на основании которого развивались математические, астрономические, медицинские и все другие актуальные знания, в этой интеллектуальной среде не подвергался сомнению [см.:16, с.21], был общепризнан, универсален и господствовал повсеместно, как бы не оставляя иного выбора для всех желающих изучать что угодно, в том числе и хозяйственную жизнь. Истина при таком подходе не была уже гегелевской «вещью в себе», не была скрыта напластованием конкретных, часто искажающих ее суть форм выражения, а находилась на поверхности и наблюдалась непосредственно: ее нужно было лишь правильно рационально логически осмыслить, систематизировать, измерить, спрогнозировать направление и динамику изменения.
Данная философия делает «экономикс» наукой формально-технической, специфика которой в том, что она имеет перед собой в качестве изучаемых пространственных соотношений параметры именно экономической жизни общества, проявляющиеся как видимая данность. В этой связи А. Маршал писал следующее: «Смысл существования политической экономии (выделено – А.Л.) в качестве самостоятельной науки заключается в том, что она исследует главным образом ту сферу действий человека, побудительные мотивы которой поддаются измерению и которая поэтому больше, чем другие, подходит в качестве объекта систематических заключений и анализа» [21, с.70]. Отсюда естественный крен «экономикс» в сторону статистических наблюдений, оценок и измерений, получающих количественную, а значит, математическую форму своего выражения, и далее в экономическую кибернетику, эконометрику и т. п. Как заметил Кейнс, это «оказывает огромное влияние на умных начинающих экономистов…», но «…обычно отходит на задний план, когда мы глубже проникаем в тайны предмета исследования» [21, с. 20].
Диалектика нужна там, где необходимо докопаться до исторически развивающейся сути дела. По нашему мнению, быть диалектиком хорошо, но быть диалектиком всегда и во всем чистое доктринерство [см.: с.14]. В сфере господства рассудочных отношений и здравого смысла востребованности диалектики нет, – логический позитивизм (эта характернейшая особенность англосаксонского эмпирического склада ума), здесь вполне «на своем месте» и уместен как научный метод. Его теоретический инструментарий весьма приспособлен для оперирования в рамках здравого смысла. Есть целые области знания, не говоря уже о его применении, например, право, которые по самой свое природе требует именно формальной логики. Поэтому-то А. Маршалл совершенно иначе, чем Маркс со своей диалектико-материалистической теорией познания, видит условия собственной исследовательской задачи: «Предстоящая нам работа настолько многообразна, что значительную ее часть следует предоставить вышколенному здравому смыслу (выделено – А. Л.), который выступает последним арбитром (выделено – А. Л.) при решении любой практической проблемы. Экономическая наука воплощает в себе лишь работу здравого смысла, дополненную приемами организованного анализа и общих умозаключений, которые облегчают задачу сбора, систематизации конкретных фактов и формулирования на их основе выводов… В употреблении терминов экономическая наука должна возможно ближе следовать житейской практике. Ее аргументы должны быть выражены языком, понятным широкой публике. Она поэтому обязана приспособиться к привычным терминам повседневной жизни и, насколько возможно, применять их так же, как они обычно употребляются» [21, с. 95]. «Но это, – добавляет А. Маршалл, сталкиваясь с реальными возможностями позитивистской методологии, – не всегда отвечает логике и точности» [21, с. 109]. В данном пункте А. Маршалл добросовестно указал, быть может, на самую замечательную особенность «экономикс» – невозможность его полной философской продуманности, не позволяющей в ряде случаев найти решения без нарушения позитивистских представлений.
Еще раз подчеркнем, какая методология – такая и теория. Сложившиеся две политэкономии – это, прежде всего, две разные философские школы, определившие разные методологические подходы к предмету исследования. Собственно, они и определяет специфический вид каждой теории, ее родовые основания, которые принято характеризовать как «твердое ядро», присущее только данной теории в отличие от других теорий, исследующих тот же объект. В этом отношении совершенно неожиданным является утверждение А. В. Бузгалина о том, что «„твердым ядром“ неоклассики являются методология и категориальный аппарат (выделено – А.Л.), вырастающие из марксизма» [4, с. 8]. Что это, ошибка при редактировании текста или очередная попытка сближения «экономикс» с марксизмом, в данном случае слева – т. е. с позиций марксизма? Но такого рода, вроде бы как честь, оказываемую основоположникам марксизма их не в меру деятельными сторонниками, они полагали для себя неприемлемой и безоговорочно отвергали. В данном пункте даже А. Маршалл, имей он такую возможность, сильно удивился бы подобному утверждению А. В. Бузгалина, ведь в отношении «твердого ядра» своей теории он специально пояснил от какого наследства (методологии и «твердого ядра» политэкономической классики) «экономикс» отказывается решительно: «… склонность Рикардо придавать чрезмерное значение роли издержек производства при анализе оснований, обусловливающих меновую стоимость, причинила особый вред делу» [21, с. 146] – категорически заявил он, в том числе в пику Марксу, который очень высоко ценил Д. Рикардо и ставил его в истории экономической мысли выше А. Смита. Где же тут сохранение «твердого ядра», восприятие методологии и категориального аппарата марксизма, если под ними понимать, как это только и может быть в науке, понятийный аппарат, а не использование в разных теориях одних и тех же слов и терминов, абстрагируясь от их разной сути в этих теориях?
Нет ничего удивительного и являющегося заслугой какой-то одной теории то, что классическая и неоклассическая теории, а также в принципе любая другая, имея один и тот же объект исследования, обречены, в связи с этим использовать одни и те же, общие для них, слова, термины и даже определения, возникающие из практики на основе здравого смысла, с которого начинается любая теория. Таковы товар, деньги, капитал, рента и т. д., и т. п. В этом отношении все экономические теории имеют не разное, а одинаковое «твердое ядро» и единый категориальный аппарат просто потому, что они экономические по своему роду. Но все принципиальным образом меняется, когда речь идет не просто об общих терминах и их абстрактных определениях, а о теоретическом понятии категорий в каждой теории. На этом логическом уровне проявляется и различие методологий, и формируется разное «твердое ядро», специфическое для каждой теории. В данном отношении «твердым ядром» марксизма являются теории стоимости и капитала, методологическим основанием которых является материалистическая диалектика, а «ядром» «экономикс» – теория предельной полезности с соответствующим методологическим оснащением в виде логического позитивизма. Места для суждения о теоретической преемственности данных наук здесь нет совершенно и искусственно ее выводить занятие в лучшем случае бесполезное.
Утверждать, что «экономикс» вобрал в себя что-то специфическое из марксисткой политэкономии, наработанное исключительно ею, несерьезно. Это нисколько не поднимает авторитет марксизма, а скорее роняет его нарочитыми и в данном аспекте ложными претензиями на теоретическую значимость, которые способны вызвать лишь обоснованное недоумение и усмешку удивления у представителей «экономикс». Что бы А. В. Бузгалин не имел в виду, какие бы специальные смыслы во благо марксизма он не вкладывал в свое приведенное выше утверждение, оно крайне неудачно и не идет на пользу современным марксистским исследованиям, которые нисколько не нуждаются в том, чтобы обосновывать их значимость подобным сомнительным образом.
В силу особенностей принятых методологий у двух политэкономий налицо, коренное различие в понимании историзма в экономике. По мысли Маркса, уходящей корнями в философию Гегеля, все человеческое, включая экономику, в конечном счете, является историческим. Т. е. историзм является теоретической доминантой, положенной Марксом в обоснование самодвижения капиталистической организации общества, в ходе которого эволюционируют ее системные характеристики. А. Маршалл же, согласно Кейнсу, «всегда стремился подчеркивать именно преходящий и изменяющийся характер форм организации бизнеса, форм, в которых находит воплощение экономическая деятельность» [21, c. 43]. Но внимание к изменению различных форм экономической деятельности, к общественной практике в целом, не есть внимание к внутренней историчности общественной жизни. Небрежение историзмом в «экономикс» ведет к тому, что социальные, значит, исторически возникшие и преходящие качества вещей, рассматриваются в качестве их естественно-природных и потому вечных свойств, соответственно, как их естественно-научные характеристики. В этом своем качестве абсолютизируя действительность, логический позитивизм трансформируется в некритический позитивизм.
Именно отсюда в рассматриваемых политэкономиях принципиально разные концепции труда и человека. Для Маркса труд – центральная историческая и логическая политэкономическая категория. Человек рассматривается как деятельное существо, изменяющее себя в процессе труда посредством собственной деятельности. Отсюда, что человек делает как таковой, и какие субъективно-психологические особенности его личности формируются под воздействием специфики исторических форм, в которых он вынужден осуществлять свою жизнедеятельность, – разные вопросы. Именно отдельные исторические эпохи делают совокупность людей, связанных определенными социально-экономическими отношениями в значительной степени носителями особых моральных качеств. Так существенной чертой буржуазного общества является овеществление всех общественных отношений и, соответственно, всех сущностных сил человека. Неоклассика ввиду отсутствия исторического контекста эту проблему не замечает и не принимает во внимание, списывая все на естественно-дурную природу людей. Ее изначальное кредо – человек-эгоист, в связи с чем А. Маршалл высказывается, в частности, следующим образом: «Если конкуренции противопоставляется активное сотрудничество в бескорыстной деятельности на всеобщее благо, тогда даже лучшие формы конкуренции являются относительно дурными, а ее самые жестокие и низкие формы попросту омерзительными. В мире, где все люди были бы совершенно добродетельны, конкуренции не было бы места, но то же самое относится и к частной собственности, и ко всем формам частного права… Таков тот „золотой век“, который могут предвкушать поэты и мечтатели. Но если трезво подходить к делу, то более чем глупо игнорировать несовершенства, все еще свойственные человеческой натуре» [21, с. 64].
Для А. Маршалла моральные издержки человеческой природы – лишь очевидный факт, дающий основание для констатации, объяснения и через это оправдания существующего порядка, вне учета специфики влияния, которое этот порядок оказывает на психику человека. Поэтому свойства человеческой натуры, возникающие из особенностей капиталистической организации общества и неразрывно с этой организацией связанные, представляются ему как исходно природные свойства людей, препятствующие наступлению «золотого века». Действительная же ситуация, как это было замечено более вдумчивыми и профильными исследователями, все-таки иная и требует раздельного понимания природы человека и тех социальных условий, в которых эта природа осуществляется. «Для доказательства того, что капитализм соответствует естественным потребностям человека, – писал Э. Фромм, – требовалось показать, что человек по природе полон духа соревновательности и взаимной вражды. Экономисты „доказывали“ это в терминах ненасытного закона выживания, наиболее приспособленных к экономической выгоде, а дарвинисты в терминах биологического выживания» [33, с. 164].
Вся внешняя данность буржуазного мира объективна и реальна. Проблема, однако, в том, что это искривленная правда жизни. Например, понимание в «экономикс» под ценой того, что «дают за товар» соответствует эмпирическому опыту участников товарного обмена и, воспринимаясь ими как вывод из их личной практики, трактуется в качестве сущностного для рыночного хозяйства (в психологии подобное наречено «ага-эффектом»). При этом не учитывается, что эмпирическим в данном случае является не только сам опыт, ведущий к такому определению цены, но и то состояние, в котором опыт приобретен. Между тем человек, делая свой свободный, как ему кажется, выбор, изначально уже детерминирован наличными ценами и установившимся в данный момент соотношением между ними, а также располагаемой суммой денег. В итоге возникает классическая антиномия: цена на товар обусловливается совокупными общественными предпочтениями, а таковое – существующей ценой, т.е. исходное утверждение столь же справедливо, как и ему противоположное. Получается логическая конструкция – добрый человек – добр.
В «экономикс» это тупиковое положение преодолевается с помощью логического «антиприема», который в свое время был использован группой авторов в качестве абсолютно необходимого и основополагающего при совершении «субъективной» революции или революции «предельной полезности». «Выстроить экономическую теорию в последовательную стройную систему, – объясняет его суть Ф. Хайек, – этим революционным мыслителям помогло как раз открытие того, что предшествующие экономическим явлениям события не являются определяющими их причинами и не могут служить для их объяснения» [5, с. 170]. Этим «открытием» было покончено с мытарствами классической политэкономии искать основания цены в производстве, из которого возникает потребительная стоимость, и родовой отпечаток которого она на себе несет в сфере обращения. Освободившись от этого сковывающего позитивистскую мысль факта, можно было без помех переходить к утверждению абсолютной истинности предельной полезности для определения цены, поскольку никто из теоретиков и вне их не может оспорить данный факт, который как таковой действительно существует независимо от любых предшествующих событий.



