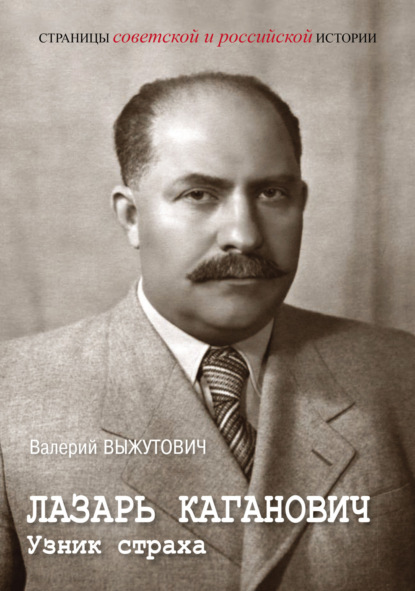
Полная версия:
Лазарь Каганович. Узник страха
Конференция проходила в Петрограде с 16 по 23 июня 1917 года. На ней Каганович впервые увидел Ленина. Спустя почти семьдесят лет он поделится впечатлением:
«Трудно передать словами то настроение, которое господствовало в сравнительно небольшом зале, когда делегаты впервые увидели и услышали Ленина, когда Ленин появился за столом президиума, на трибуне. Бурное реагирование делегатов, долго несмолкаемые аплодисменты, возгласы в честь Ленина и партии отражали не только личные настроения делегатов, но и чувства и настроения миллионов революционных солдат, прежде всего большевиков, пославших их на конференцию. Как только Ленин начал свой доклад, все были прикованы, захвачены железной логикой, глубиной и убедительностью доклада, никто не шелохнулся. Благодаря небольшому объему зала мы все сидели как бы рядом с Лениным, вокруг него, как внимательные и верные ученики вокруг своего учителя. <…> Я сидел в гуще делегатов и слышал от многих из них прямые заявления: да, придется пересмотреть свои взгляды. Уж очень убедительно говорил Ильич, его доклад предупреждает нас, чтобы мы не „наколбасили“ в большой политике, а это посерьезнее, чем „наколбасить“ просто в маленьком деле».
Тот трепет и восторг, с каким молодой революционер Каганович внимал вождю пролетариата, вполне хрестоматийны – точно так же, почти слово в слово, описывали свою первую встречу с Лениным все старые большевики. В этих описаниях не содержится ничего мало-мальски личного, ничего неожиданного, забавного, трогательного, упаси бог, смешного – они словно сделаны под копирку. «Железная логика», «глубина и убедительность», «энергия и воля»… Любые иные характеристики были бы непростительным отступлением от канона, при том что большевики канонизировали Ленина еще при жизни.
Доклад Ленина походил на разъясняющую беседу. Он назывался «Текущий момент: организация власти и Советы рабочих и солдатских депутатов». В резолюции «О текущем моменте», принятой по докладу, отмечалось, что внешняя и внутренняя политика правительственной коалиции кадетов, меньшевиков и эсеров еще пользуется доверием в мелкобуржуазной среде и у части пролетариата. Но недовольство широких масс, обостряемое экономическим кризисом, дороговизной и затягиванием войны, неизбежно приближают новый этап революции – передачу власти пролетариату. Этот переход, говорилось в резолюции, можно провести безболезненней при немедленной передаче власти Советам. Задачами партии для текущего момента являются: «…продолжая всю свою агитацию против империалистической войны, с величайшей бдительностью следить за возможными и неизбежными попытками контрреволюции осуществить в удобный момент и под удобным предлогом разоружение революционных рабочих» и «самым энергичным образом готовить силы пролетариата и революционной армии к новому этапу революции».
В числе ораторов, разделяющих позицию ЦК – позицию Ленина, был Каганович. К своей речи он с волнением готовился. Продумывал каждое слово. «Несмотря на то что я уже умел выступать, в данном случае я ужасно волновался. Шутка ли сказать – выступать по докладу товарища Ленина, по такому острому вопросу, в такой острый момент, впервые на всероссийской партийной трибуне».
Волнение Кагановича усилилось, когда его вызвал Подвойский и сказал:
– Товарищ Каганович, у нас имеются многочисленные заявления дореволюционных членов партии – делегатов конференции. Они просят от их имени приветствовать товарища Ленина. Хотят выразить солидарность с теми положениями, которые он изложил в своем докладе. Мы думаем, что вы сумеете реализовать эту идею в своей речи.
– Товарищ Подвойский, – робко возразил Каганович, – мне кажется, для этого есть товарищи постарше меня и по возрасту, и по стажу в партии.
Подвойский подбодрил:
– Я уверен, что вы скажете коротко и хорошо.
– Спасибо за доверие, – поблагодарил Каганович. – Для меня это великая честь, и я постараюсь выполнить поручение товарищей. Это наше приветствие есть клятва верности руководству Ленина, его революционно-марксистским принципам, теории, стратегии и тактике классовой борьбы за победу социалистической революции.
Поднявшись на трибуну, Каганович в точности выполнил поручение Подвойского. А в основной части своего выступления рассказал об опыте Саратовской военной организации в создании Красной гвардии. Закончил призывом признать правильными выдвинутые в докладе товарища Ленина положения и принять резолюцию, которая укажет всем военным организациям ленинский путь работы и борьбы.
Второй доклад Ленина был посвящен аграрному вопросу. Изначально этот доклад не планировался. Потребность в нем возникла стихийно. Дело было так. После первого доклада объявили краткий перерыв. Во время него несколько делегатов, в том числе Каганович, подошли к Ленину. Они начали рассказывать, как эсеры спекулируют своей программой о социализации земли, и стали просить затронуть эту тему в докладе по аграрному вопросу.
«Завязалась краткая беседа с товарищем Лениным, в которой и я имел счастье принять участие, – вспоминает Каганович. – Товарищ Ленин задал нам некоторые вопросы и, помню, полушутя сказал: „Видать, вас эсеришки все еще пугают. Хорошо, я в своем докладе коротко скажу об этом“. Тут же товарищ Ленин обратился к подошедшим членам президиума конференции товарищам Подвойскому, Крыленко и другим и сказал: „Знаете, товарищи, мне было бы удобнее не откладывать доклад по аграрному вопросу. Я к нему готов, так как делал этот доклад на Апрельской конференции, и было бы хорошо, если бы я с ходу сейчас кратко сделал бы этот доклад“. Все с радостью согласились с этим, и после перерыва товарищ Ленин сделал доклад по аграрному вопросу».
Позднее Каганович познакомится с Лениным непосредственно, будет несколько раз удостоен аудиенции.
Вторым важным событием конференции стало для Кагановича выступление Сталина с докладом «По национальному вопросу». «Остроту этого вопроса мы ощущали на местах, – пишет он. – Например, у нас в Саратове на одном из заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов остро обсуждался вопрос о требовании украинских солдат о выделении их в отдельный полк. Докладчик на Совете рассказывал, что споры доходят чуть ли не до кулаков. „Мы, – говорят они, – хотим защищать Украину“. На заседании Саратовского Совета против этого выступали и некоторые довольно ответственные большевики. „Теперь, – говорил, например, Васильев-Южин, – русификацией никто не будет заниматься. Национальное самоопределение мы сами признали. Но ведь в Украине, кроме малороссов, есть евреи, есть поляки и другие. Выделение национальностей, как козлов от овец, мы не признаем. Мы считаем, что это дело темных сил. Мы провозглашаем единение, а не разъединение. Смешно и недемократично и в духе старого строя выделять великорусские, еврейские, латышские, польские батальоны“. Не со всеми этими доводами мы были согласны, но и другие тоже усматривали в этом стремление разжечь национальную рознь».
В резолюции «По национальному вопросу» конференция признала за любым народом России право на самоопределение, но предупредила об опасности создания национальных частей.
На конференции было избрано Всероссийское центральное бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б). В него вошли Н.И. Подвойский (председатель), В.И. Невский, Н.В. Крыленко, В.А. Антонов-Овсеенко, М.С. Кедров, Л.М. Каганович, К.А. Мехоношин, Е.Ф. Розмирович, А.Я. Аросев, C.А. Черепанов, П.В. Дашкевич, Ф.П. Хаустов, Н.К. Беляков и др.
На первом заседании Бюро Подвойский сказал:
– Питерцы ставят вопрос об оставлении товарища Кагановича для работы в Петрограде. ЦК просит об этом, и я их поддерживаю, бюро в этом тоже заинтересовано – он сможет вести у нас организационную работу. Что скажет сам товарищ Каганович?
Предложение стало для Кагановича неожиданностью. Он был ошарашен и не сразу нашел, что ответить. Придя в себя, сказал:
– Я очень благодарен за такое предложение и за доверие питерской организации, которую мы очень уважаем и ценим, но скажу вот что: в Питере работников много, а в провинции мало. В Саратове меня ждут, там тоже много дел, кроме того, есть еще Поволжье, где тоже работы много. И должен еще сказать, что я получил сведения, что там положение напряженное, вроде как здесь в Пулеметном полку. Меня там эсеры и меньшевики шельмуют, идет кампания с требованием моего ареста. Если я сейчас оттуда уйду – это подорвет авторитет нашей партийной организации. Учитывая все это, мне лучше сейчас выехать туда, а там дальше можно будет поговорить еще.
Подвойский замялся:
– Что ж… Давайте сейчас не решать. Я доложу товарищу Свердлову. Потом решим.
Когда кончилось заседание Бюро, Подвойский сказал Кагановичу, чтобы тот зашел к нему часа через три. Каганович согласился, а сам тем временем отправился на совещание по агитации и агитаторским курсам, которое уже началось. На совещании заслушивались доклады. Сделал доклад и Каганович – об опыте Саратовской организации. Через три часа, не дождавшись окончания совещания, вернулся к Подвойскому. Тот сказал:
– Пойдемте к товарищу Свердлову, он хочет с вами поговорить.
Каганович был обрадован, что лично познакомится с выдающимся партийным организатором.
Свердлов встретил его приветливо, но сразу предупредил:
– Вы, конечно, знаете, что такие вопросы, как место работы, – дело не личное, их решает ЦК.
– Я это знаю, товарищ Свердлов, но член партии может высказать и свое мнение.
Свердлов, смеясь, согласился. Потом сказал:
– Питерцы очень просят оставить вас здесь, видимо, вы им понравились. Действительно, вы им были бы полезны и нужны. Кроме того, товарищ Подвойский хочет вас еще использовать для организационной работы в Бюро военных организаций. Все это было бы хорошо, но вы, пожалуй, правы, на местах людей не хватает, в том числе в Поволжье. Только имейте в виду, что вам придется распространить свою работу на другие центры Поволжья, по возможности выезжая туда, – как член Всероссийского бюро военных организаций вы имеете на это право. Главное, ЦК вам это поручает и надеется, что вы это поручение выполните хорошо.
Каганович заверил, что оправдает доверие. Но доложил:
– Сейчас в Саратове эсеро-меньшевистские организации развернули кампанию против нас и в особенности против меня, требуя моего ареста и предания суду. Если это у них не пройдет, они могут устроить внеочередную отправку меня с маршевой ротой на фронт. Тогда моя деятельность в Поволжье будет сорвана, и я не смогу выполнить поручения ЦК.
Свердлов, подумав, сказал:
– Это, конечно, вполне возможно, хорошо, что вы мне об этом сказали. Тогда давайте сейчас определим, что будем делать, если это случится. У нас плохо дело в очень важном для нас районе. Этот район входит в зону Западного фронта, но главное в том, что это особый центр, в котором размещается ни мало ни много, как Ставка Верховного Главнокомандующего – это Могилев. В нем и вокруг него расположены надежные, с их точки зрения, войсковые части. А там не только военной, но и общепартийной большевистской организации нет. Есть большевики, но они входят в объединенную организацию с меньшевиками и даже с оборонцами. В близлежащем Гомеле – старая хорошая большевистская организация, но она сейчас еще слаба для того, чтобы распространить свое влияние, воздействие и руководство на Могилев.
Свердлов объяснял Кагановичу, насколько важно большевикам иметь в Гомеле серьезного, крепкого работника. Поэтому, говорил он, если вас будут изгонять из Саратова, старайтесь всячески попасть на Западный фронт, точнее в район Могилева или Гомеля. Если в Могилеве трудно будет создать легальную военную организацию, надо создать нелегальную. То же и с вами: если трудно будет обосноваться в Могилеве легально, придется перейти на нелегальное положение или обосноваться в Гомеле. Свердлов сказал, что никаких мандатов Кагановичу не дадут: «Вы теперь – член Всероссийского бюро военных организаций при ЦК и должны действовать от его имени, поддерживая с ним связь».
Как раз в это время к Свердлову зашли и сообщили, что в Пулеметном полку идет бурный митинг, требуют представителя ЦК или Военной парторганизации. Свердлов, недолго думая, сказал, обращаясь к Подвойскому и Кагановичу:
– Вот вы оба и отправляйтесь туда.
В Пулеметном полку они застали жаркую обстановку. Пришли в тот момент, когда оратор костерил Временное правительство и требовал выступить против него с оружием в руках. Кагановича и Подвойского забросали вопросами. Им с трудом удалось успокоить толпу и объяснить, почему выступать пока рано.
Под впечатлением этого митинга Каганович отбыл из Петрограда в Саратов.
В арестантском вагоне – на фронт
В день возвращения в Саратов Каганович был арестован по распоряжению полкового командования. Его обвинили в самовольном отъезде в Петроград. Обвинение не сработало: он имел разрешение от военной секции Совета, которое перед отъездом предъявил ротному командиру. Попытки не признать этот документ, потому что он подписан не председателем, а членом бюро, не удались. Оказалось, и член бюро был наделен теми же полномочиями. В итоге Кагановича освободили.
Вообще же положение большевиков в июле 1917 года было тяжелым и опасным. После подавления стихийных демонстраций в Петрограде, бегства Ленина из столицы авторитет РСДРП(б) пошатнулся. Ее лидеров называли провокаторами (хотя массовое шествие с требованием свергнуть правительство не инициировалось большевиками, а было разгулом революционной стихии), ее газеты громили, ее активистов пачками арестовывали. Вот и в Саратове. Там, где бывали митинги – у Крытого рынка, Народного дома, теперь собирались для шельмования большевиков. Их называли шпионами, изменниками родины. Они, в свою очередь, группами (в одиночку не отваживались) приходили туда же, выступали, ввязывались в споры и нередко бывали зверски избиты.
Во второй половине июля в Саратов приехал Куйбышев, председатель президиума исполкома Совета рабочих депутатов Самары. Он выступил с лекцией «Революция и контрреволюция» (о июльских событиях), провел несколько встреч в городском и губернском комитетах партии. Каганович тогда познакомился с ним. Позднее Куйбышев станет его близким другом.
Однако эсеры и меньшевики крепко взялись за Кагановича. Они обвиняли его в невыполнении распоряжений правительства и требовали предать суду. Но он был защищен статусом члена Исполнительного комитета Совета. Приходилось считаться и с тем, что он был членом губернского бюро Советов крестьянских депутатов, а в этом бюро большевики имели серьезное влияние.
За участие в митингах и демонстрациях, произошедших в пулеметных полках, Кагановича вновь арестовали. Большевики выразили протест и заставили изменить «меру пресечения» деятельности Кагановича в гарнизоне. Командование включило его в список маршевой роты, формируемой и отправляющейся на фронт вне очереди.
Наступил день отправки. На площади перед вокзалом собралось много солдат – большевистские ячейки решили превратить проводы на фронт в политическую манифестацию. Был организован митинг. Когда маршевая рота подошла к площади, оркестр заиграл «Марсельезу». На митинге выступил и Каганович. Дальше – его воспоминание:
«Закончился митинг. Нам пришло время размещаться по теплушкам. Я тут же сфотографировался с моей женой Марией Марковной, которая пришла вместе с работниками профсоюзов. Вместе с членами Комитета военной организации я направился к вокзалу. Вдруг ко мне подходит командир маршевой роты и говорит: „Вы должны зайти в кабинет коменданта станции“. Там я застал человека, отрекомендовавшегося представителем военно-следственных органов, и представителя нашего полка, которые мне заявили: „Приказом соответствующих органов вы арестованы, вас мы не можем отправлять в общем вагоне с солдатами, вас отправят как арестованного в отдельной теплушке в этом эшелоне“. На мои протесты и требования объяснений и соответствующих документов эти господа никаких объяснений не дали, повторяя, как попугаи, одну и ту же фразу. Командир роты предложил сам препроводить меня в арестантский вагон, дабы не наделать суматохи на вокзале».
Узнав об аресте Кагановича, ожидавшие его на платформе соратники подняли было шум, но он осадил их: не надо, истолкуют как сопротивление военным властям и пришьют новое дело.
В арестантском вагоне он покинул Саратов.
На всем пути следования командир маршевой роты держал Кагановича в строгом режиме, не допуская к нему никого и не выпуская на прогулки. В первые дни ему давали газеты, потом перестали давать. В теплушке, приспособленной под гауптвахту, было досками выгорожено «купе» для особо важных арестантов. В этом «купе» Каганович проехал до Гомеля. По его воспоминаниям, «кормили плохо, даже хуже, чем всех солдат; кипятку и то не хватало, а сахару и подавно, свечей или лампы <…> не было, а естественный свет попадал в вагон… очень скудный».
Однажды запрет на посещение важного арестанта был снят, и к нему стали допускать унтер-офицера, помощника командира роты. Он, по словам Кагановича, был из тех эсеров, которые колебались «влево», и охотно вступал в беседы. Даже сам напросился на разговор.
– Вы, я вижу, хорошо знаете крестьянскую жизнь и нужды деревни. Не откажите побеседовать со мной.
Эшелон двигался черепашьими темпами – сказывалась железнодорожная разруха. Времени было много, и Каганович его с пользой употребил – на подъезде к Гомелю пытливый попутчик «дозрел» и поделился открытием:
– Я вижу, что большевистская правда является и правдой крестьянской. Эсеры действительно отступили от своей программы «Земля и воля».
Он поблагодарил своего просветителя и, прежде чем раскланяться, решительно произнес:
– Буду продвигаться к вам, большевикам, думаю, что дойду до вас быстрее, чем наш эшелон катится.
Обращенный в большевистскую веру унтер-офицер стал на время пути постоянным собеседником Кагановича или, лучше сказать, информатором. Вот как сам Каганович об этом вспоминает:
«В качестве „первого взноса“ он мне доверительно сказал: „В роте у нас идет буза. Во-первых, отправляли нашу роту в каком-то особо срочном порядке, так что даже белье не сменили, обмундирование старое, рваное, в эшелоне плохо с питанием, на станциях даже кипятку нет, больных некуда девать. Во-вторых, волнуются солдаты за вас, требуют изменения режима и допуска вас для беседы с ними, предъявляют требования к командиру, а он, этот дворянчик, хорохорится, пробует строгость наводить, а ничего не получается. Я, как его помощник, ему советовал изменить отношение к вам, а он мне в ответ знаете что сказал: „Он, Каганович, член Всероссийского бюро военных большевиков, которые заговоры учиняют, я везу его ‘при особом пакете’ как государственного преступника, а там уж разберутся, как порешить его судьбу“. Узнал я, что он не только мне, но и некоторым другим то же самое говорил. Солдаты об этом узнали, и это подлило еще больше масла в огонь“».
Поблагодарив за ценные сведения, Каганович просил допустить к нему новых собеседников, или лучше сказать – осведомителей. Двое пришли. Подробно доложили обо всем, что происходит в эшелоне, поделились газетными новостями. Положение в роте, сказали, напряженное, все ждут перемен, рвутся к активным действиям. «Я им дал совет: сдерживать наиболее ретивых, не допускать стихийных, случайных выступлений, памятуя указания Всероссийской военной конференции, не давать повода для провокаций. <…> Не надо также, говорил я, заострять вопрос обо мне, все равно командир ничего не изменит в моем режиме, который, видимо, ему был предписан в Саратове».
Когда эшелон прибыл на станцию Гомель, атмосфера там не внушала спокойствия. По воспоминаниям Кагановича, станция была забита многочисленными эшелонами и одиночными солдатами. Питания не было, кипятку и того не хватало. Солдаты бушевали. Несколько офицеров были избиты. То и дело вспыхивали митинги. В один из них был втянут Каганович. Он начал выступать, но тут налетел прибывший на станцию ударный отряд начальника гарнизона. Развернулась драка, с саблями и со стрельбой. В какой-то момент солдаты взяли Кагановича в тесное кольцо и вытащили из этой свалки. Он оказался в депо, где его приютили рабочие-большевики. Один из них связался с Полесским комитетом партии. Оттуда прислали двух активистов-солдат, и они благополучно доставили Кагановича в Гомель. Там его радушно встретили секретарь Полесского губкома РСДРП(б) Яков Агранов и его заместитель Мендель Хатаевич. Они сказали, будет лучше, если Каганович станет работать «на Могилев» из Гомеля. На некоторое время придется перейти на нелегальное положение, но потом они постараются легализовать Кагановича через военную секцию Совета.
Распределительный пункт
Маршевая рота, с которой Каганович прибыл в Гомель, вела себя сдержанней других, но она уже была «мечена» как большевистская. От греха подальше ее расформировали. Большую часть направили на знаменитый гомельский распределительный пункт, а некоторых солдат-большевиков арестовали. Каганович избежал ареста, скрываясь на квартире одного сапожника. Руководители Полесского комитета энергично искали пути к его легализации. Они организовали низовое давление солдат на солдатскую секцию Совета, настойчиво добиваясь содействия тех ее членов, кто был лоялен к большевикам. Им это удалось. Каганович был избран в гомельский Совет и получил легальную возможность развернуть широкую революционную агитацию. То есть приступить к выполнению поручения, данного ему Свердловым и Подвойским.
Сотни ораторов были разосланы по воинским частям, близлежащим деревням, предприятиям, а также на улицы и площади. На распределительный пункт – место наибольшего скопления солдат – Каганович направил отборную группу агитаторов-пропагандистов. В течение нескольких дней они заполонили город, предприятия и воинские части. Застигнутые врасплох этой большевистской интервенцией, меньшевики не поспевали за горластыми посланцами Кагановича. Свою пропаганду вели и представители Бунда. Они собирали еврейских рабочих. Не все большевики-евреи умели говорить на иврите, поэтому, вспоминает Каганович, «мы заранее отобрали группу большевиков-евреев, умеющих выступать по-еврейски, и направили их на эти собрания, где они выступали с большим успехом».
В Гомеле проявились те качества нашего героя – энергичная распорядительность, цепкий ум, готовность служить и желание повелевать, которые потом разовьются, окрепнут и превратят уроженца черты оседлости, начинавшего мальчиком на партийных побегушках, в волевого, властного, жесткого до грубости начальника.
Каганович отчетливо понимал, что Гомельский Совет – недостаточно надежный плацдарм для революционного наступления. Тем более с учетом особого положения Гомеля и Могилева как зоны Западного фронта и Ставки Верховного главнокомандующего. Требовалась энергичная работа в массах для завоевания прочного большинства.
Здесь стоит заметить, что распределительный пункт был твердым орешком для всех политических сил. Он доставлял неприятности и властям Керенского, и эсерам, и меньшевикам. Большевистским оплотом он тоже не являлся, хотя в период «корниловщины» некоторые солдаты перебегали в Красную гвардию, а унтер-офицеры помогали обучать рабочих военному строевому искусству. Большевики имели в распределительном пункте партийную ячейку, но, по признанию Кагановича, «она была слаба для руководства такой большой массой солдат, да еще, можно сказать, дезорганизованных, среди которых подвизались наряду с революционными и далеко не революционные, а даже авантюристические, анархические и черносотенные элементы».
Какое-то время большевикам удавалось держать здешние настроения под своим контролем. Но 21 сентября 1917 года распределительный пункт был окружен войсками, среди которых были и казачьи сотни. Это вызвало бунт. Группа черносотенцев и группа анархистов, действовавшие в пункте, разом объединились и призвали воинов гарнизона выйти на демонстрацию с черными анархистскими флагами. В ответ большевики развернули свою агитацию, призывая солдат проявлять выдержку и не поддаваться на провокации. Стихийно вспыхнул митинг. Он проходил очень бурно, длился чуть ли не целый день. Как вспоминает Каганович, представителям Совета не давали говорить, одного из них стащили с трибуны и избили, кому-то угрожали арестом, а кого-то обещали расстрелять.
Когда чернознаменная «гвардия» сомкнула ряды, готовясь двинуться на город, в Полесский комитет РСДРП(б) прибежали напуганные члены президиума Совета и стали просить, чтобы Каганович поехал в пункт. Посовещавшись, решили, что ему надо ехать. Двое вызвались его сопровождать. Приехали. Пробравшись к центру людского скопления, где находилась большая бочка, служившая трибуной, Каганович воспользовался первым же моментом, когда она освободилась, и быстро вскочил на нее. Далее – его воспоминание:
«Не давая передышки, я во весь голос выкрикнул: „Вы знаете, кто перед вами выступает? – Я выждал секунду, пока воцарилось известное затишье. – Перед вами выступает представитель партии Ленина – член Всероссийского бюро военных большевиков“. После маленькой паузы я почувствовал, что эта многотысячная, волнующаяся аудитория будет меня слушать. <…> „Большинство из вас, – сказал я, – уже прошло тяжкую долю солдата в окопах, где солдат доведен до крайней степени нечеловеческой жизни. Измученные за три года войны, обовшивевшие, голодные, разутые, плохо вооруженные, изувеченные физически и душой, болеющие за свою страдающую семью, вы должны и теперь по приказу господ капиталистов и помещиков Рябушинских, Родзянко, Пуришкевичей и их защитников – эсера Керенского и меньшевика Церетели, идти вновь в наступление и проводить четвертую зиму в окопах. А для кого? Для империалистов России, Англии, Франции и Америки – они против мира. Меньшевики и эсеры им помогают. Они лгут, когда произносят слова о мире, они предали народ, крестьян, солдат и рабочих. <…> Не поддавайтесь на эти сомнительные подсказы! <…> У вас нет другой партии, кроме партии Ленина, которая борется за немедленную передачу земли крестьянам, за немедленное окончание войны и за власть Советов“».

