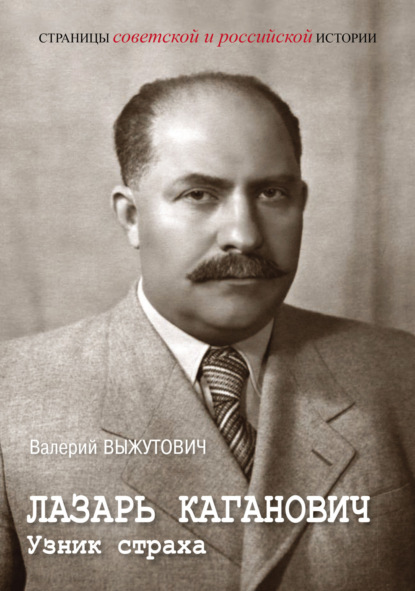
Полная версия:
Лазарь Каганович. Узник страха
Далее Каганович обещал, что Полесский комитет большевиков примет через Совет рабочих и солдатских депутатов все меры для улучшения положения в самом распределительном пункте с питанием, обмундированием, медицинским обслуживанием и в первую очередь немедленно будут убраны присланные сюда вооруженные солдаты. Обещание не было выполнено уже тогда, в 1917-м, а затем на протяжении всей советской истории во всем, что касалось условий жизни народа, большевики лишь обещали «принять все меры для улучшения» и были при этом расчетливо неконкретны. То же и с обещанием немедленно убрать из распределительного пункта вооруженных «усмирителей». Они ушли оттуда, но не «немедленно», а, как утверждают историки, через 6–8 дней, и не по постановлению Полесского комитета РСДРП(б), а по приказу Ставки.
В сентябре начались забастовки полесских сапожников и кожевенников, переросшие во всеобщую забастовку в Гомеле. Здесь большевикам успешно противостояли бундовцы. Убежденные сторонники Временного правительства, они пытались остерегать забастовщиков от конфронтации с властями. Десятая конференция Бунда, состоявшаяся в апреле 1917 года, отметила «всю важность поддержки нового правительства для того, чтобы удержать завоеванную свободу». Бундовцы считали, что свержение царской династии открыло новые перспективы для капиталистического развития России и становления буржуазной демократии. Еврейская буржуазия получила широкие возможности для активной деятельности в стране и совсем не грезила пролетарской революцией. На этой почве бундовцы то и дело сталкивались с большевиками. В.И. Ленин считал бундовцев классовыми врагами пролетариата. «Газетная травля лиц, клеветы, инсинуации служат в руках буржуазии и таких негодяев, как Милюковы, Гессены, Заславские, Даны и пр., орудием политической борьбы и политической мести», – говорилось в его статье «Политический шантаж», опубликованной в сентябре 1917 года. А оценивая позицию Бунда в годы Первой мировой войны, В. И. Ленин характеризовал ее как антироссийскую. «Бундовцы, – писал он, – большей частью германофилы и рады поражению России».
Как твердый ленинец Каганович старался при всякой возможности давать идейно-политический бой предводителям Бунда. Один из них, Михаил Либер, пассионарий и златоуст, осенью 1917-го приехал в Гомель. По этому случаю местные бундовские вожди назначили собрание еврейских рабочих в здании городского театра. Полесский комитет РСДРП(б) решил по-большевистски встретить идейного неприятеля. На собрание в театр были отряжены Каганович и с ним еще двое.
«В своей речи, которая была ответом Либеру, я старался исторически, на основе ленинских работ, раскрыть, разоблачить перед рабочими консервативную, реакционную сущность бундизма. Такую же резкую оценку я давал всем социал-сионистским группировкам в еврейском рабочем движении среди евреев. <…> На собрании никаких резолюций не принималось, но по всему – и по выступлениям, и по реагированию аплодисментами посередине и в конце моей речи, и по последующим отзывам – видно было, что мы, большевики, одержали большую морально-политическую победу. Либер уехал из Гомеля, как Мальбрук с похода», – хвалился Каганович.
Так ли все было? Иными воспоминаниями мы не располагаем. Но едва ли своей ораторской мощью Каганович сразил наповал бундовского вождя и перетянул на свою сторону часть его сторонников. Все же Либер был не лыком шит. Его ум, находчивость, острый язык и сумасшедшая одержимость политикой по достоинству ценились в революционной среде. И не оставляли никому сомнений: этот человек опасен. Либер неоднократно преследовался ЧК, подвергался арестам и ссылке. В конце 1921 года жил в Саратовской губернии, работал кооператором. Местными чекистами характеризовался как «лидер меньшевиков, правый», «активный партийный работник». В 1921-м в Саратове был арестован, перевезен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму, потом освобожден.
С 8 июня по 7 августа 1922 года в Москве проходил судебный процесс над группой эсеров. Накануне суда ГПУ жестко отсекал некоторых меньшевиков от участия в процессе в качестве защитников. Отсекли и Либера. Поначалу распорядительное заседание суда утвердило его в общем составе защитников. Хотя Либер к тому времени формально в партии не состоял, усиливать защиту эсеров столь яркой политической личностью большевики не хотели. Распорядительному заседанию была представлена выписка из «Заключения по делу М.И. Либера-Гольцмана», подписанного начальником Особого бюро ОГПУ Я.С. Аграновым 10 мая 1921 года: «Либер в своем письменном объяснении от 7/V (1921 г.) заявил о своем согласии работать исключительно в хозяйственных и культурно-просветительских областях. В своем устном объяснении со мной дал слово не заниматься никакой политической деятельностью в ближайший период, подразумевая под последним все время диктатуры коммунистической партии». На основании этой выписки Либера лишили права быть защитником. В 1922-м его приговорили к 3 годам концлагерей. Потом были Таганская пересыльная тюрьма, Суздальский политизолятор, ссылка в Семипалатинск… До 1937 года он проживал в Алма-Ате, работал экономистом-плановиком горкомхоза. 13 марта был арестован, 22 сентября внесен в расстрельный список, 1 октября по статьям «террор» и «участие в к.-р. организации» осужден к высшей мере наказания, 4 октября расстрелян. В 1958 году его посмертно реабилитировали по этому обвинению, в 1990-м – по другим делам.
Знал ли Каганович, как после тех дебатов, где он якобы положил на лопатки своего политического противника, протекала и чем завершилась жизнь Михаила Либера? Знал, несомненно. Не мог не знать. Возможно, даже поставил свою подпись под расстрельным списком. Но в его мемуарах об этом человеке больше нет ни слова.
Власть в Гомеле переходит к советам
Согласно официальной историографии, «отцом революции» в Гомеле был Каганович. Именно он, принято считать, сыграл главную роль в вооруженном восстании. «В конце октября – начале ноября руководил захватом власти большевиками в Гомеле и Могилеве, вел революц. пропаганду в казачьих войсках, направлявшихся с фронта в помощь Врем. правительству», – сообщает Большая российская энциклопедия. Кстати, в Гомеле на дворце Румянцевых-Паскевичей еще сохранилась мемориальная табличка о том, что здесь заседал Совет рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший 28 октября 1917 года победу советской власти в городе. Но не где-нибудь, а здесь же в сентябре 1917-го заседал этот же Совет и едва не был разгромлен толпой солдат, изнуренных окопами и жаждавших мира. Гомельские большевики в те дни осудили громителей. Чтобы через два месяца прийти к власти под лозунгом «Долой войну!»
Сам Каганович в «Памятных записках» настаивает на своем главенстве в захвате власти большевиками в Гомеле. Однако, как отмечает А. Воробьев, исследователь революционного движения в Полесье, «его заслуги там сильно преувеличены».
Обратимся к тем событиям.
Обстановка начала накаляться с середины октября, и дальше все шло только по нарастающей.
16 октября разгорелись дебаты на областной конференции Советов. Решался вопрос о созыве II Всероссийского съезда Советов. Большевики, численно преобладавшие над бундовцами, меньшевиками и эсерами, требовали созвать съезд немедленно. В ответ слышали, что, созванный наспех, этот съезд не будет правомочен. Слово взял Каганович.
– Мы, большевики, – заявил он, – не просто за созыв второго съезда Советов, мы за то, чтобы этот съезд стал полновластным хозяином земли русской и установил власть Советов по всей стране.
Большинством голосов была принята резолюция: созвать II Всероссийский съезд Советов 25 октября 1917 года.
После конференции Каганович поехал в Минск для встречи с председателем Северо-Западного губкома РСДРП(б) А.Ф. Мясниковым. Предстояло обсудить с ним план дальнейших действий. Мясников ознакомил визитера со второй, закрытой, частью статьи Ленина «Кризис назрел». В ней Ленин ставил вопрос о восстании и взятии власти Советами. Мясников рассказал Кагановичу, что по сведениям, которыми он располагает, на Пленуме ЦК, состоявшемся 10 октября, с докладом «О текущем моменте» выступил Ленин и что против его предложения о восстании высказались члены ЦК Каменев и Зиновьев. Пленум, сообщил Мясников, поддержал Ленина и предложил всем организациям держать курс на восстание. Каганович, со своей стороны, подробно доложил Мясникову о положении дел в Гомеле и готовности к бою за советскую власть. Мясников одобрил работу гомельских большевиков.
– Мне, – сказал он, – в ЦК говорили, что вы очень энергичный и горячий работник. Вот надо, чтобы мы согласовали и свою энергию, и свою горячность.
– Полностью согласен с вами, товарищ Мясников, – ответил Каганович, – и сделаю все, чтобы горячность не нарушила согласованность действий.
Каганович доложил Мясникову и о положении в Могилеве. Председатель губкома подчеркнул особую важность Могилева как центра антиреволюционных сил.
– Могилев, – сказал он, – входит в сферу деятельности Полесского комитета, и мы надеемся, что вы доведете до успешного завершения процесс полной большевизации Могилевской организации.
Мясников сообщил, что в Минске эта задача уже решена. Теперь, сказал он, осталось успешно провести кампанию выборов в Учредительное собрание.
– Мы не боготворим это Учредительное собрание, не оно будет решать судьбы революции, – сделал оговорку Мясников, – но сам процесс выборов и голоса масс имеют большое значение, поэтому мы уделяем этому серьезное внимание… Вы, надеюсь, ничего не имеете против того, чтобы наша конференция вас выдвинула кандидатом в Учредительное собрание.
– Конечно, нет, товарищ Мясников, я это рассматриваю как доверие партии.
Попрощавшись с Мясниковым, Каганович поспешил в тот же день, не задерживаясь, выехать в Гомель – готовить вооруженное восстание. Подготовка велась по двум направлениям: формирование отрядов Красной гвардии и пропаганда в воинских частях. После победы над Корниловым Керенский издал приказ: немедленно прекратить самовольное формирование боевых вооруженных отрядов, создаваемых под предлогом борьбы с контрреволюцией, а те, что были созданы, расформировать. Большевики этому упорно противились. В первой половине октября ряды красногвардейцев росли пуще прежнего, формировались новые отряды.
В начале октября Полесский комитет РСДРП(б) провел громкую кампанию по освобождению из гомельской тюрьмы солдат-фронтовиков, арестованных за отказ наступать. Некоторых из них обвинялись в убийстве командира бригады. Кампания увенчалась успехом: арестованных освободили, и некоторые из них пополнили ряды Красной гвардии. Что касается оружия и боеприпасов, большевики черпали их из арсенала воинских частей Гомельского гарнизона.
«Эти октябрьские дни и ночи были заполнены бурной, кипучей боевой работой Полесского комитета, районных комитетов, всей Гомельской партийной организации и каждого большевика в отдельности, – вспоминает Каганович. – Передо мной сегодня встает картина бурно кипящего котла в Полесском комитете, в котором мы кипели, но никогда не выглядели разваренными, а чувствовали себя крепкими, собранными, радостно-бодрыми, несмотря на бессонные ночи. С раннего утра до поздней ночи двери Полесского комитета не закрывались. Ежеминутно приходили рабочие, солдаты, партийные и беспартийные и всегда получали четкие ответы по поставленным ими политическим и практическим вопросам, из которых многие были по делам вооружения организации боевых рабочих дружин и записи в Красную гвардию. В Полесском комитете было установлено круглосуточное дежурство».
Одновременно с подготовкой к восстанию гомельские большевики были вынуждены вести борьбу с «внешним врагом» – войсками, направляемыми Ставкой с Западного фронта в Петроград и Москву для подавления там митингов и демонстраций. Эти войска продвигались, по преимуществу, через гомельский железнодорожный узел. Полесский комитет РСДРП(б) поставил задачу партийным организациям: задержать продвижение этих войск. Задача была не из легких. Железнодорожные начальники не желали задерживать составы, наоборот, немедленно давали им «зеленый». «Пришлось мобилизовать силы низовых агентов-железнодорожников, и прежде всего – паровозников, станционных работников, в том числе стрелочников, путейцев, вагонников, чтобы всяческими способами задержать продвижение эшелонов, несмотря на угрозы военного командного состава и даже рядовых, особенно казаков, – рассказывает Каганович. – То, что не удавалось на подступах к Гомелю, приходилось возмещать на самом гомельском узле. Красная гвардия, особенно из железнодорожников, оказала нам неоценимую помощь в выполнении этой задачи».
Задача была не только технической, но и политической. Требовалось «обработать» казаков и солдат – пассажирский состав тех эшелонов. Полесский комитет выделил для отправки на станции около ста отборных пропагандистов и агитаторов. Им было приказано: войска на Питер и Москву не только не пропустить, но и политически «размагнитить», привлечь на свою сторону. Первая группа вернулась со станции Гомель, избитой казаками. Направили других. Этих не избили, но послали очень далеко. После их возвращения Каганович собрал бюро Полесского комитета и сказал: делать нечего, надо нам самим туда поехать. Ему возразили: это рискованно. После короткой дискуссии решили, что ехать надо. На станцию отправились несколько человек во главе с Кагановичем.
«Когда мы прибыли, появилась группа казачьих офицеров и разговор сразу начался на высоких нотах – об изменниках, об измене и шпионстве большевиков и т. д. и т. п., – читаем в „Памятных записках“. – Когда я начал беседу, указав, что их везут как карателей, один из офицеров подскочил ко мне и закричал: „Что вы слушаете его? Кто он по-вашему, не шпион, этот жид?“ Тогда я спокойно, повернувшись к казакам, начал отвечать: „Разрешите, товарищи казаки, ответить: я большевик, сторонник Ленина, а на его стороне миллионы русских, украинцев, белорусов, евреев и всех наций нашей страны и всего мира“. <…> Тут опять не выдержал офицер и истерически начал кричать: „Вы что его слушаете, его убить, расстрелять надо!“ – и поднял револьвер, но стоявший рядом старый казак схватил его руку. <…> Поднялся невероятный шум, вокруг офицера образовалась группа оголтелых офицеров, вахмистров и частично рядовых казаков, которая продолжала кричать и угрожать. <…> Я тогда погромче сказал: „Дайте досказать, а его благородие пусть ответит, одним словом, вы проведите собрание, как полагается всем порядочным солдатам и казакам“. После этого мне удалось им сказать, как Ленин смотрит на войну, кому она выгодна, на передачу земли помещиков крестьянам и казакам, что от народа никакие господа не спасутся, революция свергла царя, революция в Петрограде уже свергает и его последышей, власть будет народная – власть Советов рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских депутатов. Вновь повторилась та же катавасия. Офицерская группа начала кричать: „Ведите его в штаб, там мы поговорим с ним!“ Подскочили ко мне и начали силой тащить меня. Тут нашелся Якубов [один из сопровождавших Кагановича большевиков. – В. В.], он закричал: „Вы знаете, над кем вы насилие совершаете? Товарищ Каганович – кандидат в Учредительное собрание, а вы что делаете?“ Это произвело впечатление. Зашумели казаки, некоторые начали кричать: „Врешь ты!“ А товарищ Якубов оказался запасливым мужиком, он выхватил из кармана экземпляр официального списка кандидатов в Учредительное собрание и говорит: „Вот, читайте“. Когда один из них вслух прочел, изменился несколько тон и хулиганствовавших, и особенно отношение большей части присутствовавших казаков: „А почему нас не пускают?“ Пришлось опять объяснить, на какое предательское дело их везут. „Неужели казаки, – говорил я, – трудовые люди не изменились и будут проливать кровь своих же братьев рабочих и солдат Петрограда и Москвы? А за кого? За богатых купцов, фабрикантов и помещиков, за Керенского? Не лучше ли вам поскорее вернуться к себе, в свои города, деревни, на Дон и Кубань, к своим семьям и там тоже сделать революцию?“ Опять поднялся шум, но уже более умеренный. Правда, ни один рядовой казак не выступил, но чувствовался известный перелом у значительной части рядовых казаков. Офицеры без повторения своих выкриков и угроз удалились якобы в штаб для совещания, а казаки, уже более мирно настроенные, сказали: „Посмотрим еще“. И начали потихоньку расходиться. <…> Мы считали, что в первой схватке с такими вышколенными недругами мы частично все же одержали политическую победу, и решили продолжить работу в этих казачьих и тем более солдатских эшелонах».
Дальнейший ход событий показал, что работа большевиков с транзитными «пассажирами» дала результаты: в гомельском железнодорожном узле и на подступах к нему было задержано более 60 эшелонов с войсками.
В назначенный час революционные отряды штурмовали гомельский «Зимний дворец» – гостиницу «Савой». Именно оттуда вооруженные солдаты и рабочие выбивали офицеров, не пожелавших сложить оружие.
28 октября бурно открылось заседание Гомельского Совета. После того, как резолюции меньшевиков и правых эсеров не прошли, рассказывает гомельский историк-краевед Юрий Глушаков, они решили бросить в зал «бомбу». Информационную. «Казаки Краснова уже взяли Петроград, ваш Ленин бежал, а члены большевистского правительства арестованы и завтра будут висеть на фонарных столбах», – заявил с трибуны один из социалистов. По рядам большевистско-левоэсеровской фракции прошел легкий ропот, кто-то стал пробираться к выходу, кто-то покрепче сжал в кармане рукоятку нагана… С места поднялся Каганович:
– Это наглая ложь. Где доказательства? Я авторитетно заявляю – власть в Петрограде находится в руках Советов, Краснов разбит и бежит.
«На самом деле Лазарь Моисеевич откровенно блефовал, – уточняет историк. – Связи с восставшим Питером не было никакой, ее заблокировала могилевская Ставка. Что происходило в столице, не знал никто, но, как говорили в то время, „классовое чутье не подвело“. Взятый, что называется, на арапа „Зимний дворец“ в гомельском парке пал без единого выстрела».
Не соответствует истине и мемуарная реляция Кагановича о небывалом подъеме, будто бы охватившем жителей Гомеля от падения «власти эксплуататоров и угнетателей».
«Известие о переходе власти в руки большевиков гомельчане восприняли довольно безразлично, – рассказывает заведующая историко-краеведческим отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля Анна Кузьмич. – В течение двух дней после взятия Зимнего дворца ни одна из гомельских газет не опубликовала эту новость. Хотя известие о том, что власть в Петрограде перешла в руки большевиков, пришло в Гомель уже ночью 26 октября (старый стиль) по железнодорожному телеграфу. Многие просто не верили, что новые хозяева пришли всерьез и надолго. В этом отношении Гомель, кстати, совсем не исключение. В воспоминаниях очевидцев тех событий четко прослеживается мысль: Октябрьскую революцию (или переворот) как эпохальное событие первое время не воспринимали даже сами большевики. Не говоря уже о рядовых гражданах необъятной страны».
Поединок с Мартовым
В отличие от локомотива истории, несшегося на всех парах по объятой революционным пожаром России, литерный Гомель – Петроград плелся как черепаха, и к открытию Учредительного собрания Каганович опоздал. Собрание проходило в Таврическом дворце, 5–6 января 1918 года, с четырех часов вечера до пяти утра, а потом «караул устал» – и с представительной демократией в России было покончено на семьдесят с лишним лет.
На Николаевском вокзале, еще не выйдя в город, Каганович обзавелся утренним номером большевистской «Правды» со статьей об Учредительном собрании. «Я с удовольствием читал оценку нашей ленинской „Правдой“ этого сборища разбитых Октябрьской революцией контрреволюционных партий как холопов и прислужников российских и заграничных банков и капиталистов, пытающихся вернуть потерянное, вернуть власть буржуазии и помещикам и захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции».
С тем же воодушевлением он прочел декларацию фракции большевиков, оглашенную на первом заседании Учредительного собрания. Она вытекала из тезисов Ленина, напечатанных в «Правде» еще 26 декабря 1917 года. Эти тезисы предостерегали большевиков от формального подхода к Учредительному собранию. «Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об Учредительном собрании с формально-юридической стороны, в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии, – писал вождь. – Предостеречь всех и каждого от этой ошибки, в которую впадают немногие из верхов большевизма, не умевших оценить октябрьского восстания и задач диктатуры пролетариата, есть безусловный долг революционной социал-демократии».
Поскольку «сборище» было разогнано, спешить в Таврический дворец уже не имело ни малейшего смысла. «Я немедля поехал в ЦК». Зачем? И почему «немедля»? В мемуарах об этом ни слова, но скорее всего – искать себе дальнейшее применение, а «немедля» потому, что стоит замешкаться, и тебя уже обошли более расторопные товарищи. Желание не опоздать на еще не оконченный пир победителей – именно оно, рискнем предположить, влекло Кагановича в «колыбель революции», Учредительное собрание было лишь попутной целью командировки. Петроград ведь являлся не просто столицей. Это была столица новой власти. Именно в Петрограде заседало правительство, работал Ленин, витийствовали партийные вожди. Именно в Петрограде решались дела, делились портфели, вершились судьбы.
Приехав в ЦК, Каганович встретил там члена Бюро военных организаций К.А. Мехоношина. Тот ему рассказал о создании Народного комиссариата по военным делам. Кроме того, сообщил что ЦК и Совнарком приняли проект декрета о роспуске Учредительного собрания и что сегодня этот декрет будет обсуждаться на заседании ВЦИК. «Я, – сказал Мехоношин, – собираюсь как раз туда, поедем вместе». По дороге Мехоношин поведал подробности дискуссии, разгоревшейся в Таврическом дворце в ночь на 6 января. «Так что, – заключил он, – не стоит жалеть, что ты опоздал, зрелище было жалкое».
Они прибыли на заседание ВЦИК перед выступлением Ленина. Получив трибуну, отец революции с сарказмом высмеял участников Учредительного собрании, сравнив боевой, полный жизни Смольный с Таврическим дворцом, где «я почувствовал себя так, как будто бы я находился среди трупов и безжизненных мумий».
Каганович видел выступающего Ленина второй раз. И снова был заворожен – «его голос, его жесты те же, вся его речь в целом такая же – цельная, вылитая, выкованная из одного куска высококачественной стали».
Речь вождя завершилась овацией, возгласами: «Да здравствует Ленин! Да здравствует советская власть!» А 9 января был опубликован декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания.
На том же заседании была принята резолюция: «Центральный Исполнительный Комитет считает необходимым всей организационной силой Советов поддержать левую половину Учредительного собрания против ее правой, буржуазной и соглашательской половины, и в этих целях постановляет созвать на 8 января третий Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и 12 января третий Всероссийский съезд крестьянских депутатов».
Третий съезд Советов проходил 10–18 января. Когда председатель ВЦИК Я.М. Свердлов объявил съезд открытым, несколько духовых оркестров грянули «Интернационал», а затем «Марсельезу». Это был съезд победителей. Есть определенная символика в том, что проходил он там же, в Таврическом дворце, где несколько дней назад «формально-юридический» подход ко всему сущему был навсегда замещен «классовым», а диктатура пролетариата повергла представительную демократию.
Каганович был делегатом этого съезда. Снова, уже в третий раз, затаив дыхание слушал Ленина, начавшего свой доклад сравнением власти Советов с Парижской коммуной. «Помню, с каким подъемом и воодушевлением делегаты съезда в перерыве делились своими впечатлениями, как горячо делегаты – простые рабочие и солдаты вступали в спор с меньшевиками и костили их всеми, далеко не парламентскими словами». В стороне от этих споров не остался и Каганович. В кулуарах съезда он сцепился с меньшевиком Ю.О. Мартовым. Дело было так. Мартов что-то кричал, отбиваясь от наседавших на него солдат и рабочих. Каганович подошел и услышал:
– Да как вы смеете называть меня контрреволюционером? Я критикую большевиков и вашего Ленина за то, что вы захватили власть, но ее не удержите и погубите всю русскую революцию.
– Не беспокойтесь, – вмешался Каганович, – удержим власть пролетариата покрепче, чем ваш Церетели «удержал» власть буржуазии и помещиков.
– Я не защищаю Церетели! – воскликнул Мартов.
– Но вы с ним в одной партии и в одном ЦК, а после Октябрьской революции вы одним голосом нападаете на нас, большевиков, и тянете назад к власти буржуазии, – Каганович повел наступление на противника. – Мы вас знаем как человека, который еще в давние времена вместе с Лениным создавал «Союз освобождения рабочего класса», и за это мы вас уважали, но потом вы сползли на путь оппортунизма. Вы субъективно считаете себя революционером, но попали вы в одну компанию с контрреволюционерами, поэтому товарищи делегаты правильно вас величают контрреволюционером.

