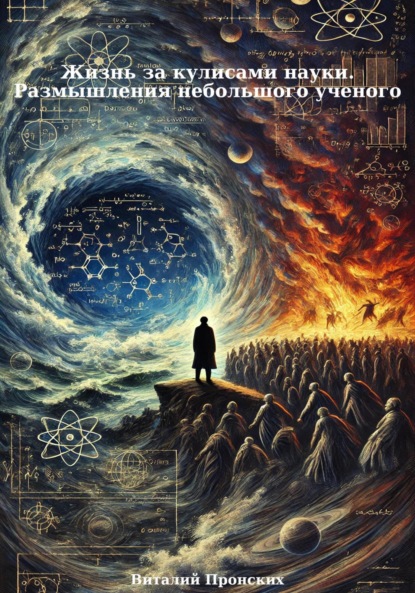
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
Но тогда так и закончилась бы эта практика для Андрея плачевно, если бы не выручил научный руководитель нашей группы – Индра Адам. Он предложил Калинникову взять Андрея в нашу группу, молодежь ведь всегда нужна, особенно в 90-е, когда в науку сложно было зазвать ребят. А по поводу негативной характеристики, данной Андрею его руководителем, мол, он «плохой работник», Индра высказал очень мудрую вещь. С приятным нашему уху европейским акцентом он сказал коллегам: «Молодой человек не может быть плохим. Он еще никакой и станет таким, как ты научишь. Чтобы стать плохим, нужно, чтобы жизнь так прошла, чтобы тебя другие научили быть плохим. Старый может быть плохим, но не молодой». С этими словами Андрея оформили в нашу группу, и, забегая немного вперед, скажу, что он совершенно достойно показал себя в работе, а уехав несколько лет спустя с семьей в Германию (близкую ему по темпераменту), успешно защитил там диссертацию, позже перейдя там же на работу в IT. Таким образом, Адам действительно оказался прав, и о том, что Андрей пришел в нашу группу, никому не пришлось жалеть. Молодой не может стать плохим, пока его этому не научат жизнь и встреченные в ней люди, это я хорошо запомнил.
Итак, меня взяли на работу в НЭОЯСиРХ ЛЯП ОИЯИ, в Дубну. Я еще совсем не представлял, как организована работа научного сотрудника в рамках института. Казалось, нужно просто интенсивно заниматься интересными исследованиями, а успех, признание – все это придет само. По некоторым разговорам я уже ощущал, что не все просто и приятно в научной жизни, и я не столько это игнорировал, сколько готов был всему учиться, во всем разбираться: и в науке, и в человеческих отношениях, сопровождавших ее. Я был студентом, и окружающие относились ко мне, как к студенту, я никому не перешел еще дорогу, ни с кем не конкурировал, поэтому препятствия были минимальны, и все меня поддерживали. Был, пожалуй, один только момент, который был тревожным звоночком, или, как говорят еще, «красным флагом». На ЯСНАППе я стал невольно свидетелем перепалки между Павлом Чалоуном и Владимиром Ильичем, когда Стегайлов прокомментировал что-то в электронике, которую настраивал Павел, как мне показалось со стороны, довольно нейтрально, а Павел в ответ резко и в довольно грубой форме высказался в том смысле, что Стегайлов якобы говорит нечто неадекватное, по его мнению. Сам факт конфликта с руганью на повышенных тонах между старыми коллегами без особого, казалось бы, повода, произошедший при постороннем, указывал на очевидные трения в коллективе. Но я не думал, что меня это может касаться, тем более, других вариантов у меня не было (а если бы и были, где гарантия, что они были бы иными?) В следующих главах, на примерах других конфликтных ситуаций, я буду обсуждать их связь с научной культурой более детально. А в период дипломной работы даже тот факт, что мой первый наставник, В.И. Стегайлов, будучи взрослым человеком, в возрасте около 50 лет, еще не был даже кандидатом наук, меня не особенно заботил. Он ведь сам как-то упоминал, что у него были все возможности защититься, но он сам от них отказался, в силу личных обстоятельств. Ну и ладно, думал я. Я-то вот сяду и сразу напишу диссертацию, как диплом написал. Впереди маячили широкие горизонты.
Глава 2
Глава 2. Первые годы в ЛЯП. Знание, достоинство и дружба
И вот я – исполняющий обязанности младшего научного сотрудника ЛЯП ОИЯИ! Шел 1994 год, начало мая, когда я приехал оформляться на работу. Перед приездом меня очень беспокоил жилищный вопрос: нас в семье было четверо, и нам требовалось жилье в Дубне. С одной стороны, меня успокоили, пообещав служебную квартиру. Как мне объяснили, с началом 1990-х из ОИЯИ уехало много иностранцев, для которых это жилье предназначалось, и его стали давать российским сотрудникам тоже. Это, конечно, радовало, так как мы в Морозовке жили в довольно стесненных условиях и даже без горячей воды, а в Дубне служебное жилье (по крайней мере, то, на которое мы могли рассчитывать) было в так называемых «болгарских» четырехэтажных кирпичных домах, со всеми удобствами обычных городских квартир. С другой же стороны, получение служебного жилья требовало некоторых действий, которые были в ту пору непривычными для постсоветского человека и меня поначалу настораживали.
В те годы еще действовало распределение, когда молодые выпускники вузов приезжали на работу с направлением из министерства, которое обеспечивало им, по крайней мере, общежитие, постоянную работу и прописку (важный элемент той жизни, дававший некоторые социальные гарантии). Именно так, по распределению, и приехали двое моих однокурсников, Андрей и Дима, их поселили в «Гриле», так называлась в народе гостиница «Дубна», как и ресторан, находящийся на первом этаже. Мне же предлагалось отказаться от распределения и устроиться в ОИЯИ по контракту от РФ – по схеме, сходной с той, как устраивались иностранцы от своих стран. В этом случае мне предоставляли служебное жилье с временной регистрацией, для получения которой от меня требовали сначала выписаться из Ленинградской области, где мы уже обладали постоянной пропиской. Помимо риска отказа от ряда гарантий и прописки, был и риск, связанный с тем, что такой контракт заключался только на три года, после чего его нужно было продлевать. Неявно предполагалось, что в случае непродления мне с семьей пришлось бы сразу освободить служебную квартиру и отправиться куда глаза глядят, причем, вероятно, даже не обратно в Морозовку, так как прописку и комнату там мы теряли.
Делать было нечего, наука требует жертв, и мы пошли на такой вариант. Однако еще одной из нестандартных сложностей было то, что, чтобы юридически освободить ОИЯИ от каких-либо обязательств передо мной, мне нужно было привезти письмо от направляющей организации, гарантирующей, что они впоследствии «обеспечат мое трудоустройство, если отпадет необходимость моей работы в ОИЯИ». Требования, видимо, были хорошо проработаны юристами ОИЯИ, разбиравшимися как в российском законодательстве и наличной правоприменительной практике, так и в использовании прав и привилегий международных организаций, которыми обладал ОИЯИ. В отличие от обычных контрактников, которых направляли их институты для действительно только временной работы в ОИЯИ, где мне, вчерашнему выпускнику, не проработавшему нигде еще ни дня, было взять такое письмо? И я пошел на кафедру Техноложки и постарался объяснить ситуацию как декану Штанько, так и тогдашнему завкафедрой, проф. И.А. Васильеву. Что и говорить, ситуация была неординарная, и подобных прецедентов еще не было. К моей неописуемой радости, посовещавшись, они составили требуемое письмо и завизировали его, после чего я отнес письмо на подпись к проректору, поставил печать и повез в Дубну, довольный, что успешно отказался от положенных мне социальных гарантий государства и теперь стану контрактным сотрудником международной организации по крайней мере на три года.
Спустя много лет мне до сих пор сложно понять, какими альтруистическими побуждениями руководствовались эти добрые люди на кафедре, но не могу представить, как я нашел бы из подобной ситуации другой выход, но при этом попал в ОИЯИ. Техноложка затем еще три (!) раза, каждые три года, давала мне такие письма для продления контракта, а они были принципиальными для ОИЯИ, не в последнюю очередь чтобы я не имел права приватизировать служебную квартиру, сколь долго я ни прожил бы в ней и сколько бы детей у нас ни было. У меня перестали требовать такие «отказные письма» только с 2008 года, когда я построил собственную квартиру (в чем мне, правда, очень помогла жилищная программа для молодых и высококвалифицированных специалистов ОИЯИ и города Дубны). Это и была та нетривиальная помощь мне со стороны Техноложки, о которой я упоминал в прошлой главе. Тут я невольно вспоминаю своего школьного друга Костю, который закончил МГУ с красным дипломом и занимался наукой, но не смог остаться в Москве в аспирантуре, поскольку не имел московской прописки. Ему пришлось вернуться в Череповец, где он поступил в аспирантуру филиала СЗПИ (который тогда уже имел другое название, не помню, какое в тот период), и занимался там, пока его не подкосила болезнь. Мы могли там оказаться вместе. Куда какой путь нас приведет – непредсказуемо.
Как выяснилось, в мае 1994 года свободных служебных квартир временно не было, мне пообещали дать ее только через полгода, поэтому я приехал на работу сначала один, оставив жену с детьми в Морозовке. На первое время меня поселили тоже в «Гриль», в комнату с соседом-теоретиком, работавшим у академика Кадышевского и занимавшимся теорией гравитации и черными дырами. «Вот ведь занимаются непонятно почему гравитацией в ядерном институте, нет бы на ускорителе работать», – думал я про соседа. Тот наверняка думал нечто подобное, но в другом ключе, как о человеке, занимавшемся неэлитарными экспериментальными исследованиями (так мне, по крайней мере, казалось). Но в подобные дебаты мы не вступали. Как я вскоре понял, для теоретиков зачастую понятие «экспериментатор» звучало тождественно понятию «инженер», что в принципе было недалеко от истины. Из разговоров с соседом также выяснилось, что, несмотря на высокопоставленного научного руководителя, служебной квартиры ему не было обещано, возможно потому, что у него не было семьи. Кроме того, вроде бы выходило, что эти квартиры редко выделяли теоретикам. У теоретиков были другие траектории, они быстро «становились на ноги», защищая диссертации, и уезжали за рубеж совсем (как сделает мой сосед в недалеком будущем), либо становились начальниками подразделений и руководителями собственных проектов, получая гранты, финансирование и длительные приглашения за рубеж, и так зарабатывали себе на жилье и жизнь.
Я не мог дождаться, когда же освободится квартира для меня, чтобы поскорее перевезти семью в комфортные условия, и, услышав на работе от коллег что-либо обнадеживающее, сразу же шел теребить сотрудников ОЖОС и отдела кадров, хотя и безуспешно. Например, когда в общежитии мне рассказали слух, что в доме напротив только что освободилась служебная квартира, поскольку семья сотрудников из одной из стран СНГ уехала домой, я наивно шел просить себе эту квартиру. На меня недоуменно смотрели: «Кто уехал?»– и качали головой: «Они еще после нас уедут». И я шел восвояси. Вскоре уехал на родину коллега Гюнтер Крайпе, с которым мы так хорошо сотрудничали на дипломе. Германия вышла из членов ОИЯИ, оставшись ассоциированным членом, и немецких сотрудников отозвали, а Гюнтер решил было сначала остаться работать по индивидуальному контракту, а не как представитель своей страны. Однако фокус был еще и в том, что, помимо зарплат из бюджета ОИЯИ, иностранные сотрудники получали и дополнительные зарплаты в валюте от своих стран, многократно превышавшие зарплаты российские, что в голодные 1990-е годы обеспечивало им безбедное существование. И когда Гюнтер оформился уже не от Германии, его уровень жизни упал до нашего, российских сотрудников, так что, даже несмотря на усилия Отдела скомпенсировать ему как-то это падение, он просто не смог оставаться больше в Дубне и вынужден был уехать.
Будучи человеком очень доброжелательным и открытым, Гюнтер предложил мне сразу попросить в ОЖОС его квартиру, тем более что он там оставлял хорошую стиральную машинку (которой у моей семьи не было), и хотел, чтобы эта машинка отошла коллеге. Другие мне тоже сказали, что это хороший вариант, надо поскорее бежать в ОЖОС. Я снова пошел в ОЖОС и снова получил отказ. Не помню, кто и где именно мне тогда это разъяснил, но, как выяснилось, служебные квартиры были закреплены за землячествами, то есть национальными группами иностранных сотрудников ОИЯИ. Если из квартиры выезжали ее временные жильцы, то ее ОЖОС совместно с руководителями землячеств перераспределял для других сотрудников от этого землячества. Так произошло и с первой найденной мной освободившейся квартирой, и с квартирой Гюнтера (хотя Германия и вышла из Института, видимо, квартиру передали другой национальной группе). Добрые люди, дававшие мне информацию об освободившихся квартирах и других благах, которые я якобы мог быстро получить, возможно, знали об этих подводных камнях, но я был новичок, и я не исключаю, что это были задания из своего рода «курса молодого бойца», как принести воды в решете. Они тоже бывают полезны, так как позволяют человеку на небольших ошибках лучше и быстрее понять особенности новой для него системы. Я не обижался ни на кого, просто ждал, работал и набирался опыта.
На работе, в группе Адама на ЯСНАПП, я сразу погрузился в эксперименты, которые тогда шли полным ходом. Мне все было в новинку и интересно, я брался за все, с удовольствием дежурил на экспериментах днями и ночами, помогал заливать азот в детекторы и разливать его в дьюары из азотного танка, откачивать вакуум в тракте ионопровода установки МУК форвакуумным насосом и, конечно же, набирать спектры гамма-квантов и гамма-гамма-совпадений на компьютер с электроники установки и анализировать их программами обработки спектров. Я перенес и переложил вместе с остальными несчетное количество свинцовых кирпичей и блоков для защиты детекторов от фона. Больше всего, конечно, мне нравилось программировать научные задачи на компьютере. Вместе с Андреем Приемышевым, устроившимся в эту же группу, я писал много небольших компьютерных программ, в основном по просьбе Адама, которые были вспомогательными при обработке и интерпретации спектров гамма-квантов. Хотя должность моя тогда и называлась всего лишь «исполняющий обязанности младшего научного сотрудника», я был горд этим, а в особенности рад, что она не называлась «инженер», по причинам, которые я уже обсуждал выше. Постепенно я и Андрей знакомились с традициями, писаными и неписаными правилами. Они были похожи на правила и в других группах НЭОЯСиРХ. Например, нас не сразу стали включать в публикации и даже тезисы конференций, представлявшиеся от группы, а также первый год-два не брали и на профильные конференции: надо сначала поработать, освоиться, войти в курс дела, заслужить. То же самое касалось загранкомандировок. В первую мою загранкомандировку, в Чехию, я поехал только примерно через три года работы, когда меня за успешную работу перевели из «и.о.» в обычные м.н.с.
То, что право на участие в научной деятельности, а особенно такие привилегии, как загранкомандировки, нужно заслужить трудом, казалось мне, да и сейчас кажется, правильным. В первые годы я часто слышал от Стегайлова фразу, что молодой сотрудник должен работать так, «чтобы шуба трещала», что напомнило мне мою собственную армейскую службу, где старослужащие говорили, что молодых солдат надо гонять так, «чтобы шуба заворачивалась». Я был готов заниматься любой работой для пользы науки и Института, в этом я не видел проблемы. Единственное, чего я хотел, это того, чтобы у труда были плоды, чтобы он вознаграждался. Мне не нравился армейский принцип работы «от забора и до обеда», когда, как в известной песне, «мерилом работы считают усталость». Долгие измерения, анализ, подготовка детекторов, возня с радиоактивными источниками, нескончаемые круглосуточные дежурства должны были заканчиваться статьями в хороших журналах, докладами на конференциях, поездками и участием в научных дискуссиях. Иначе все это ни к чему, это не наука.
Когда позже, уже после окончания периода моей научной молодости, отношение к молодежи в ОИЯИ и в мире стало меняться в сторону либерализации, это начало вызывать у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я с удовлетворением смотрел, что новая молодежь с вузовской, а то и школьной скамьи получает возможность публиковать статьи или участвовать в конференциях, получать гранты, ездить в командировки еще до того, как они внесут какой-либо вклад в науку и вообще начнут что-либо понимать в ней. Стали открываться возможности, которых раньше не было. Это, разумеется, хорошо для них, способствует более ранней профориентации и успешной карьере. Но с другой стороны, иногда можно было заметить иждивенчество, мол, «что вы мне дадите, если я у вас буду работать молодежью?» Меня больше заботило, что я могу дать группе, Лаборатории или Институту, тогда как потом стали появляться молодые люди, которые больше фокусировались на том, как себя подороже «продать». А ведь если вы сами упрашиваете человека прийти в коллектив, как вы потом потребуете от него работы, он и так оказал вам благодеяние уже тем, что согласился у вас работать? Но это не означает вовсе и что приходящий по своей инициативе и выбору человек должен становиться крепостным и безропотно терпеть любое, даже самое безобразное, отношение к себе. Тут требуется баланс, взаимная ответственность, и найти здесь «золотую середину» – сложная задача, требующая как усилий системы научного образования и профориентации, так и корректировки устройства науки как социального института.
Итак, возвращаюсь к первым моим годам как сотрудника ОИЯИ. Я проводил все время в НЭОЯСиРХ и на ЯСНАПП, работая и общаясь с коллегами, и российскими, и иностранными сотрудниками, как в экспериментах, так и за чашкой кофе и чая. Общался я и с другой научной молодежью отдела. Этажом выше на ЯСНАПП размещалась группа спектроскопистов, которой руководил Кирилл Яковлевич Громов, один из корифеев исследований структуры атомного ядра. Они готовили аспирантов-молодых ученых из СНГ, главным образом из Узбекистана, там были ребята Мехмон и Шавкат, вроде бы там также сотрудничали и с поляками. На нашем этаже работал профессор Владимир Александрович Морозов, его группа состояла только из его дочери Наташи, некоторое время проучившейся в Москве. Они вроде бы сотрудничали с румынами, но при мне те не появлялись. На первом этаже, в экспериментальном зале, рядом с ионопроводами, в комнате сепараторщиков, работали молодые ребята из сектора Юшкевича, Юра Ваганов и Никита Котовский (вскоре уехавший в Германию).
Более бурная жизнь была в Отделе. Большую часть отдела занимали секторы, работавшие по нейтринной тематике. Их научно координировал автор атласа изотопов Вылов. Изначально эти секторы тоже были спектроскопическими, но потом переключились на ставшие более модными в мире исследования, нейтринные, тем более что ими сначала можно было заниматься, используя ту же хорошо знакомую нам технику – полупроводниковые германиевые детекторы – и измеряя те же гамма-кванты, испускаемые распадающимися ядрами. Потом к ним добавились другие проекты близкой тематики, от нейтринного детектора на Байкале до низкофоновых нейтринных же экспериментов во Франции. Сотрудников в нейтринных секторах было больше, чем спектроскопистов, там работали молодые яркие ребята: Марк Ширченко, Женя Якушев, Витя Тимкин, физики более старшего поколения Николай Ильич Рухадзе, Слава Егоров, руководил ими Виктор Борисович Бруданин, в ту пору заместитель директора ЛЯП, а их главным руководителем был как раз Вылов, в ту пору уже вице-директор ОИЯИ. Они много сотрудничали с французами, ездили в Орсэ, Сакле и другие интересные места, а французы бывали у них. Было немало и других сотрудников, с которыми я уже меньше пересекался. Вылов-то, как мне сказали, и нашел изначально эту нейтринную тематику и «пробил» ее в Отделе и Лаборатории. Он был начальником Отдела еще до Калинникова, затем стал директором ЛЯП, а уже в мою бытность в Отделе он занимал должность вице-директора всего ОИЯИ.
Таким образом, в Отделе сосуществовали два научных направления: исследования структуры атомного ядра, возглавляемые Калинниковым, которые на языке теории исследовательских программ Лакатоса можно было назвать регрессивной научной программой, так как интерес в мире к ней угасал и в ЛЯП ей выделялось все меньше ресурсов, и нейтринные исследования под руководством Вылова-Бруданина, которые были прогрессивной программой по причине растущего интереса к нейтрино в мировой науке. Почему же, несмотря на то что Индра Адам из нашей группы был не менее, а скорее всего, более, публикуемым физиком в области структуры ядра, чем кто-либо еще в Отделе, включая Калинникова, и гораздо более международно известным и цитируемым, я назвал Калинникова руководителем программы? Я к этому буду еще возвращаться ниже, но Калинников был начальником Отдела, научным администратором, и, соответственно, официальным руководителем темы. В экспериментальной науке, где возможности для исследований открывают ресурсы – оборудование и средства на него, рабочая сила – именно контроль за ресурсами открывает возможности для исследований. Говоря совсем попросту, в экспериментальных коллективах кто выше начальник – тот больше и ученый. Буквально по Мишелю Фуко, о котором ниже. Без подписи Калинникова ни один эксперимент на ЯСНАППе не мог начаться. С другой стороны, на стороне «нейтринщиков» были начальники еще более высокого звена, поэтому их возможности были еще больше. А ресурсы всегда ограничены, и конкуренция за них в Отделе между спектроскопистами и «нейтринщиками» была неравной.
Такое слияние власти (в данном случае, научной власти) и науки не уникально для ОИЯИ: в западной науке хотя многое выглядит по-другому, тенденции те же. Как мне рассказывали, одна из причин, почему директорами научных институтов в СССР часто назначали физиков-теоретиков, это то, что, помимо более высокого статуса и престижа, они были наименее лично заинтересованы в тех или иных исследованиях. Ведь поставь директором нейтронного физика – все средства пойдут на нейтронные исследования, нейтринного – на нейтринные, ускорительного – на ускорительные, реакторного – на реакторные и так далее. Проблема тут в том, что, становясь администратором, ученый не теряет прежних научных интересов. Более того, должность научного менеджера даже на Западе часто лишь «ускоритель» научной карьеры, и за время пребывания на руководящей должности ученый нередко делает и головокружительную научную карьеру, достигает и высших научных, а не только административных званий. А в бывшем СССР редкий ученый (в экспериментальной научной лаборатории, не в университете) добьется в своей карьере высших должностей, скажем главного научного сотрудника, звания профессора, академика, если не поработает на хорошей административной должности, за время пребывания на которой или вскоре после этого удостоится всех этих регалий.
Отличие западных институтов, в которых мне удалось поработать, лишь в том, что там директора, как правило, экспериментаторы, их срок пребывания на высших должностях ограничен, а после работы в директорской должности ученый обычно уходит в профессора и не руководит более институтом ни прямо, как директор, ни косвенно, как его научный руководитель. Но и там администрирование – кратчайший путь к научным карьерным вершинам. Скажем, для получения звания профессора в научном институте по правилам РФ, как правило, нужно стать научным руководителем нескольких (кажется, пяти) диссертаций, и многих начальников подразделений их подчиненные – реальные руководители соискателей – записывали в соруководители, чтобы не осложнять жизнь себе и диссертанту; в результате, поработав таким начальником, многие автоматически становились и профессорами. Этакие научные рантье. Могу себе представить идеальную ситуацию, что, если бы срок работы на руководящей должности в науке не шел в зачет как научный и за его время (и несколько лет после) нельзя было бы приобрести дополнительных научных регалий, сменяемость руководства резко бы повысилась, как и сократилось бы использование ресурсов в частно-научных интересах. Но эта идеализированная схема слишком противоречила бы наличной научной культуре и мотивации большинства ученых, хоть в ОИЯИ, хоть на Западе. К великому сожалению, она трудно реализуема на практике.
Из множества дискуссий с коллегами я в первые же годы вынес следующее понимание «раскладов» в Отделе и ОИЯИ в целом. Если иностранные сотрудники даже формально были объединены в землячества, национальные группы, имевшие свое руководство, которое защищало их интересы перед администрацией ОИЯИ и его подразделений, то у российских сотрудников, неважно контрактных или постоянных (бывших советских сотрудников), своего землячества не было. В этом не было ничего ни нового, ни удивительного для меня. Ведь и в СССР национальные республики (а после перестройки многие бывшие республики и стали странами-участницами ОИЯИ) обладали суверенитетом, Kонституциями, правами на международные отношения, национальными Aкадемиями наук, которых не было у РСФСР. Да и из службы в армии, я хорошо помнил, что неформальные землячества с их поддержкой в сложных ситуациях были у солдат всех национальностей, кроме русских. Видимо, когда народ количественно большой, то внутренние связи ослабевают и потребность в поддержке соплеменников для выживания народа не так очевидна.
Здесь стоит сделать небольшое историческое отступление. Конечно, ОИЯИ создавался для объединения усилий ученых, в первую очередь, стран Восточного Блока, СЭВ, и в годы СССР было очевидно, что в самом СЭВ экономические рычаги использовались СССР как инструмент политического давления на другие страны, которые зачастую находились в экономически зависимом положении. Но это было на межгосударственном уровне. На уровне рядовых граждан иностранцы в Дубне, конечно, всегда были привилегированной группой. Об этом писали и дубненский историк Н.Н. Прислонов, и историк Р. Хандожко, и много других авторов уже в более позднее время. Обычно к этим привилегиям относили и возможность пользоваться валютными магазинами «Березка» в Москве, и специализированным столом заказов в Дубне для иностранцев, и дополнительные зарплаты от направляющих их стран. В годы перестройки и борьбы с привилегиями это вызывало у дубненцев бурные обсуждения с оттенком рессентимента, как, например, у дубненского политического активиста Е. Федюнькина, который в местной газете «Инсайт» уподоблял положение российских сотрудников положению колонизированных народов, что было явным преувеличением.



