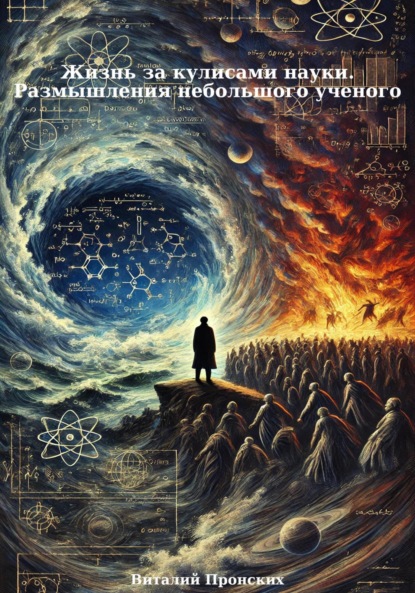
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
Как я писал в первой главе, я отслужил срочную службу в стройбате и видел множество самых разнообразных так называемых неуставных взаимоотношений. Они воспринимались там как нечто неизбежное, связанное и с ситуацией подневольного труда, замкнутых коллективов, и, скажем, отбора кадров. Но чего я по молодости лет не ожидал, это того, что с хамством, агрессией, унижениями можно встретиться в фундаментальной науке, там, куда, казалось бы, отбираются и попадают лучшие из лучших. Естественно, и среди лучших, собранных вместе, происходит социальное расслоение по разным признакам. Как в анекдоте, когда сотрудника правительственного аппарата некой страны спрашивают, как он там себя чувствует, тот отвечает: «Первые полгода я удивлялся, как я туда попал. Но потом стал удивляться, как туда попали другие».
Интуитивно мне казалось, что близость к научному знанию и обладание таковым непременно должны делать человека достойным, благородным, высокоморальным. Или даже так: лишь достойные люди могут и должны обладать знанием. Как ни странно, похожие мысли высказывались еще в античности, например, когда Платон и Аристотель говорили о достоинстве знания как такового. Под этим они подразумевали, что знание само по себе приобщает человека к высшему благу, идеальному миру, ведет к мудрости и высокоморальной жизни. Иммануил Кант полагал, что рациональность – внутреннее, «встроенное» качество человека, поэтому рациональное, научное, познание необходимо и для человеческого достоинства. Способность к независимому познанию дает человеку интеллектуальную автономию, свободу, позволяет реализовать свой человеческий потенциал. Но, как оказалось, с этим не все так просто и однозначно. Рациональность тоже можно понимать по-разному. Начиная примерно с XX века исследователи отмечают становление различных неклассических рациональностей, например, включающих в научный (даже естественнонаучный) процесс цели и ценности человека, связанные с утверждением им себя среди других людей, в обществе и в природе.
К примеру, французский философ Мишель Фуко отказывался разделять внутреннее и внешнее достоинство знания, то есть достоинство знания самого по себе (как у Аристотеля) и достоинство для прикладных целей (например, создание технологий), что предлагали многие философы. Фуко ввел понятие власть-знание, говоря, что знание вовсе не независимо от власти, напротив, научные институции создают и поддерживают социальные иерархии, подчинение одних людей другим, ограничение свобод и социальный контроль. Более того, Фуко утверждал, что научные истины не открываются объективно, а производятся системой власти в науке. Есть только один вид достойного поведения для индивида в науке – это бросать вызов доминирующей точке зрения научных авторитетов, говорил философ.
Пьер Бурдье, французский социолог, объяснил механизмы, позволяющие знанию функционировать в сообществе как форме власти. Для этого он ввел понятие «социальный капитал», которое многие используют, даже не задумываясь о его происхождении. Ученые в науке (по крайней мере, в современной, институциализированной науке), считал Бурдье, накапливают престиж и легитимность (власть, награды, звания, административное положение, связи), для того чтобы побеждать в конкуренции за научные ресурсы других ученых и за счет этого формировать то, что становится общепринятым знанием, выдаваемым и принимаемым обществом за истинное. Утверждая свои властные нарративы в качестве истинного знания, они одновременно и утверждают себя как обладателей и носителей этого знания. Существование же областей «элитного», не всем доступного знания позволяет исключать из познавательного процесса целые группы, для того чтобы доминировать в поле научного и общественного признания, представляя себя обществу некими «жрецами» высших истин. В этом смысле чем научные утверждения звучат туманнее для общества, тем удобнее их использовать в борьбе за признание этого общества и финансы, прикрываясь риторикой о своем стремлении к некоему «чистому» или «фундаментальному» знанию. Как и Фуко, Бурдье признавал в качестве единственной формы достойного знания критическое знание, которое личность должна противопоставлять доминирующему властному дискурсу, вскрывая для общества его истинные мотивы.
Со всеми этими позициями связано множество противоречий, но невозможно на полном серьезе в научном институте XX и XXI века пользоваться (только) представлениями, работавшими в античности или даже в Средние века. Общество изменилось, а уж наука изменилась кардинально. Невозможно мерки, предложенные одиночками-теоретиками познания и метафизиками за столетия до нашей эры, полноценно использовать в современном ядерном институте, да и в тех аспектах, где можно, есть нюансы. Не потому, что они были глупее, вовсе нет, просто те социальные явления, которые нас окружают, не существовали тогда. Поэтому за попытками научных авторитетов спрятать реальные недостатки научной системы, прикрываясь высокопарными фразами, зачастую скрывается лицемерие и личные интересы.
Если мы в этих философских рамках рассмотрим ту же проблему с защитами диссертаций, обозначенную выше, то сможем провести параллель и с дискуссией о человеческом достоинстве. Как я говорил, ученая степень – свидетельство готовности человека к самостоятельной научной работе, той самой интеллектуальной автономии, о которой говорил Кант. С другой же, социальной, стороны, прав и Бурдье, считая ученую степень социальным капиталом, позволяющим конкурировать за более высокие должности, гранты. Поэтому, препятствуя защитам кандидатских, моей ли и моих ровесников, старших коллег, иракского стипендиата, начальник Отдела наверняка думал в категориях Бурдье (которые все ученые интуитивно признают, но на словах всегда отрицают), что он препятствует лишь конкуренции за ресурсы с нашей стороны: открылась позиция в руководстве – выбрали устраивающего кандидата, защитили, назначили – и продолжаем работать. Но вряд ли он задумывался, что тем самым он не только превращает остальных в «рабочих лошадок» на неопределенный срок, но и лишает их чего-то большего – достоинства, именно в кантовском понимании, как научной самостоятельности личности.
Работая долгие годы в науке, но не получая принятого в этом сообществе формального подтверждения своей способности к самостоятельным исследованиям, интеллектуальной независимости, люди начинали чувствовать, что им отказывают в признании их человеческого достоинства. Таких людей в науке, по моим наблюдениям, очень и очень много. И в тех многочисленных фактах, когда облеченные властью и положением люди не стесняясь унижают зависящих от них и хамски обращаются с ними, тоже скрыто пренебрежение к человеческому достоинству. Я тогда часто вспоминал службу в армии: дедовщина (старшие подавляют младших), землячество (поддержка в рамках сетей) – в превращенной форме это было и в науке. Принадлежность к влиятельным сетям и иностранным культурам – социальный капитал, и унижениям, как правило, подвергались те, за кого не могла вступиться социальная группа, сеть, хотя были и исключения. Это одна из причин того, что я никогда не наблюдал ярких проявлений неприемлемого обращения с иностранными сотрудниками. Не видел я и грубого отношения и с их стороны к кому-либо: это, вероятно, определялось уже их культурными нормами. Но чтобы безнаказанно попирать достоинство человека, нужно держать его под контролем. Служебное жилье, из которого могут выставить вместе с детьми в любой момент, контракт, который начальника нужно просить продлить каждые три года, – это плеть, а пряник – обещание, что когда-нибудь за хорошее поведение позволят защитить (напишут) диссертацию. Пожалуй, доктора напишут.
Но те же Фуко и Бурдье отвечают нам на вопрос, почему молодому человеку, о котором я писал выше, был закрыт вход в теоретическое сообщество, несмотря на молодость, способности и рвение. Поддержание закрытости и элитарности престижных социальных групп в науке позволяет поддерживать эту элитарность, добиваясь большего признания, престижа и других социальных благ. «Слоненок маленький». И хорошая, квалифицированная популяризация науки, а не пускание пыли в глаза и спекуляции, популяризация, объясняющая обществу доступным языком реальное положение дел и проблемы научной области именно для того и нужна, чтобы делать знание эгалитарным, интересным, доступным, а не туманными заклинаниями жрецов науки. А это действительно архисложная задача, тут важно, будучи доступными и понятными среднему образованному слушателю, не скатиться тем не менее и в профанацию или фантазии на тему науки.
Почему, задумывался я иногда, заходя на площадку, хорошо образованные и, как правило, воспитанные изначально люди, увлеченные научным поиском, желающие делать открытия, служить обществу, за годы работы в науке нередко приходят к тому, что делают своим основным занятием наращивание социального капитала, борьбу за должности и влияние, становясь нередко хамами, интриганами и стяжателями? Почему, занимаясь получением знания, которое и само по себе достойно, и приносит обществу достойные плоды, вместо того чтобы, как считали древние греки, становиться все более высокоморальными и духовными, начинают сами попирать достоинство других? А что если все это уже не то знание, о котором говорили греки, а псевдознание, не являющееся столь достойным?
Несколько лет на первом этаже Отдела стояла установка «Возмущенные угловые корреляции» (ВУК), на которой работал Зиновий Залманович Аксельрод, который приезжал из НИИЯФ МГУ, где он работал, иногда с женой Леной, тоже физиком. Он был коренной москвич, много старше нас, уже кандидат наук, но совершенно открытый и интересный человек, с которым я, как и другая молодежь Отдела, отлично по-дружески общались, несмотря на разницу в возрасте, звали в гости. Он был очень интеллигентный и мягкий человек, никогда не повышавший голос и не ругавшийся. С установкой не все ладилось, и нередко, проходя по первому этажу, я слышал, как какие-то сотрудники отдела во весь голос кричали, отчитывали и бранились у него в помещении, это было слышно и в коридоре. Через некоторое время у Зиновия Залмановича случился инфаркт, и его не стало, и я не исключаю, во многом это было связано с нервной обстановкой. Мне и самому приходилось в те годы лечить нервы, несмотря на молодой возраст. Я вспоминал Череповец, затем стройбат. Там-то люди были часто злыми и жестокими, вели себя агрессивно и бранились от собственной беспросветной жизни, отсутствия всякого смысла существования и перспектив. А отчего же это здесь, у них же все есть? Я не мог понять.
Хотя мой научный опыт в США требует отдельной книги, вкратце сопоставлю, что проблемы с социальным капиталом, который подменяет научные ориентиры, погоня за званиями и наградами, доминирование сетей и династий – все это есть во всем мире, хотя часто принимает иные формы. Это особенность устройства современной науки. Ясно, что современная наука во всем мире – не та наука и не то познание, о котором говорили Аристотель и Кант, это совсем другое явление, заслуживающее отдельного анализа. Однако чего я не видел практически никогда в США – это унижения человеческого достоинства в научном институте. Ученый, который нахамит другому, вмиг потеряет свое положение, каким бы большим начальником он ни был, за этим следят очень пристально. Даже не только буквальное хамство, а микроагрессии, то есть мелкие словесные уколы, моментально пресекаются. Причем значительная часть контроля за этим возложена на непосредственных, низовых руководителей, и отделы кадров, а они тщательно следят за этим, так как их собственные очки и оценка как администраторов значительно зависят от атмосферы и климата в коллективе. Отличия в системе организации труда там есть. Люди, как и везде, разные, и вербальная агрессия и неуважительное обращение, например, может проявляться иногда и там, но человеку достаточно в мягкой форме показать, что вам не нравится его стиль общения, чтобы коллега откорректировал свое поведение. Проблемы не нужны никому, а они точно появятся, если вовремя не остановиться. Есть много отработанных каналов для воздействия на распоясавшихся индивидов. Но это уже проблема общей культуры и организации научного процесса.
Я не берусь утверждать, в чем тут первопричина такого устройства науки, но мне кажется, что наука, как социальный институт, дана на откуп самим ученым, которые редко достаточно сведущи в социальных вопросах. Общество верит: они лучше знают, как себя организовать. А это не так, социальная организация науки – это тоже наука, требующая понимания и истории, и социологии, и философии, причем не просто начитанности в них, а привлечения квалифицированных специалистов. Сам факт тесного переплетения научных и административных ипостасей, как я писал уже выше, приводит к эффекту «что охраняю, то и имею». Кроме того, безусловно, наука – часть культуры общей, и культура общества проявляет себя в научной. Если в традиции сталинских и бериевских шарашек отношения начальник-подчиненный строились на грубости и унижении, откуда взяться другому? ОИЯИ как бы мультикультурен, а точнее, двукультурен: есть стандарт для российских сотрудников, близкий, наверное, к любому российскому (а ранее советскому) научному институту, а есть стандарт для иностранных сотрудников. И повторюсь, этот двойной стандарт создают вовсе не иностранцы, его создаем мы сами, стремясь сделать их условия максимально комфортными, как мы это понимаем. И как же хорошо, что есть (или было в годы моей работы) такое «перекрестное опыление», когда сотрудники из разных стран перенимали лучшие особенности культуры друг друга.
Я не берусь с ходу рассуждать, как можно (и можно ли) преодолевать эти проблемы, но мне кажется, первый шаг к этому – начать их открытое обсуждение в научном сообществе. Не только в социальных сетях, где нет-нет да и прорываются «крики души» обычно молодых ученых, а обсуждение широкое, системное, научное. Иными словами, обращаясь к Фуко, восстановить достоинство знания и достоинство человека в науке можно, лишь бросив вызов доминирующей практике конвертации ценностей научного поиска в ценности борьбы за социальный капитал и заметания проблем под ковер.
Но хотел бы я закончить эту главу тем наиболее позитивным, что у меня было в первые годы работы в ОИЯИ, помимо интересной научной работы, – международным дружеским общением. Его центром формирования, если так можно выразиться, был кабинет Всеволода Михайловича Цупко-Ситникова на втором этаже Отдела. Нашу группу и всех, кто в нее приезжал или по разным причинам попадал в орбиту, незадолго до обеда или в конце рабочего дня он собирал на чай. Это было не просто чаепитием, а дружескими посиделками с обсуждением всех новостей, как научных, так и мировых и бытовых. Завсегдатаями у него были и Индра, и Александр Александрович Солнышкин, и Анаит Балабекян, а также приезжавшие в командировки молодые чешские сотрудники Яромир Мразек, Карел Катовски, работавшие в Отделе молодые болгарские сотрудники, профессор из Индии Винод Кумар, аспирант Харфул Кумават и многие, многие другие, всех уже и не упомнить. Кто-то приходил изредка, а кто-то регулярно, но там всегда царила дружеская атмосфера, где могли что-то подсказать, поделиться интересным опытом, поддержать или дать совет. Мы собирались там и по праздникам и радостным событиям. Как я мысленно называл эту «чайную» компанию, «хорошие люди», а Павел Чалоун ехидно именовал наши посиделки на чешский манер «čajová компания». Всеволод Михайлович был очень отзывчивым человеком, готовым помогать всем, вплоть до сопровождения не владевших русским языком командированных на прием к врачу для помощи с переводом просто по зову сердца.
Кроме новостей науки, там же узнавал я и о научных традициях, советовался, как решать проблемы научной жизни. Для любого научного работника, а в особенности для молодого, важно иметь свою компанию, где можно отдохнуть душой, пообщаться, а иногда и получить помощь старших товарищей. Там, например, мне просто объяснили причины столь несдержанного поведения некоторых руководителей. В годы СССР, рассказали коллеги, в ОИЯИ существовал партком, который в некоторых ситуациях играл роль омбудсмена, например, пресекая явные нарушения этических норм, а когда его не стало, то не осталось никого, кто мог бы выполнять эту функцию. И если Аристотель, как известно, различал дружбу для удовольствия, дружбу для пользы, и дружбу по общности добродетели, то такая «чайная» дружба включала все эти элементы, она и приносила удовольствие, и была полезной для молодого ученого, и при этом давала ощущение близости морально-этических представлений участников и именно поэтому позволяла откровенно делиться своими мыслями. Всеволод Михайлович был центром притяжения и всего действа. И если получить удовольствие или пользу можно различными способами, то найти компанию, где люди общаются на равных, признают моральное достоинство друг друга и уважают его безотносительно возраста, регалий, или положения – редкая удача. Говоря словами Канта, это когда видишь в человеке и общении с ним цель саму по себе, а не средство достижения других, практических, целей. Часто мы там общались именно ради самого общения, хотя и на научные темы. Это важно не только для молодого человека, но в особенности в современной науке с ее рынком тщеславия. И именно эта компания, не менее чем исследования ядер, осталась в моей памяти о первых годах работы в ОИЯИ одним из наиболее ярких и светлых воспоминаний.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



