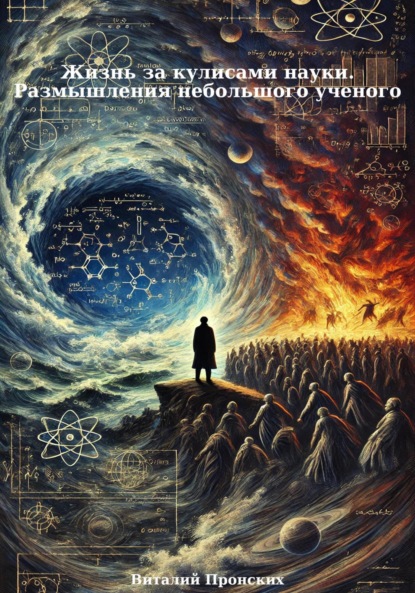
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
Если в этом, казалось, и была некая доля истины, то лишь для тех, кто не сотрудничал с иностранными учеными и инженерами. Те же, кто непосредственно по работе взаимодействовал с иностранными коллегами, как правило, имели возможность регулярно ездить в заграничные командировки в их институты и получать совместные гранты, приобщаться к их культуре. Более того, случалось, что иностранные сотрудники в годы советского дефицита из дружеских побуждений привозили своим коллегам качественные иностранные товары, например предметы одежды и обуви, недоступные в СССР. Причиной же неравенства служили не только экономические преимущества, но и также пиетет перед иностранцами, исторически присущий нашей культуре в целом, не только в экономическом аспекте. Это было замечено еще в XIX веке известным славянофилом философом А.С. Хомяковым, который писал «всякому образованному русскому все-таки естественно кажется, что человек, который говорит только по-французски или по-немецки, образованнее того, кто говорит только по-русски». Когда в те годы в ОИЯИ проходило отмечание крупных праздников, например, Нового года, то на банкеты приглашались все представители национальных групп, а из российских сотрудников туда попадали лишь по приглашению этих групп, и неудивительно, что приглашенными зачастую оказывались представители научной администрации. Но и это казалось вполне естественным, так как администрация везде представляет собой отдельный класс в сообществе.
Итак, в отличие от иностранных сотрудников, у сотрудников российских не было своего официального землячества. Но зато было множество неофициальных. Это были региональные научные диаспоры, которые более точно можно назвать вузовскими. Например, в НЭОЯСиРХ практически все ядерно-спектроскопические группы возглавлялись «ленинградцами», выходцами их ЛГУ. Это были Калинников, Адам (Индра закончил ЛГУ и был женат на грузинке Ламаре, замечательном детском докторе), Громов и Морозов (если не ошибаюсь), а также Новгородов (хотя он был из Техноложки). То, что Калинников и Адам заинтересовались принять на работу нас с Андреем Приемышевым, возможно, как-то и было связано с «происхождением» из Питера, но мы не были из ЛГУ и его сообщества, поэтому в этом вряд ли проявилось особое расположение, скорее, мы как молодежь оказались в нужное время в нужном месте. В предшествовавшие десятилетия выходцев из ЛГУ было больше, и, когда ядерная спектроскопия была передовой наукой, у них были сильные позиции. Выпускником ленинградского Политеха был, например, Венедикт Петрович Джелепов, первый директор ЛЯП, чьим именем сейчас названа Лаборатория и с кем мне посчастливилось даже обсуждать одну научную работу. В период, когда я стал сотрудником ЛЯП, для ленинградской диаспоры наступал период заката.
В другой, нейтринной, части НЭОЯСиРХ большинство позиций было за другой диаспорой, набиравшей тогда силу, воронежской. Ее представлял в ЛЯП заместитель ее директора Виктор Борисович Бруданин, и значительная, если не большая, часть нейтринной молодежи НЭОЯСиРХ была выпускниками физического факультета Воронежского государственного университета. Как и в нашем случае с Техноложкой, у воронежцев были тесные связи с руководством и профессурой их факультета, откуда к ним регулярно прибывали новые молодые силы для подпитки Отдела. Далеко не все из них оставались работать в ОИЯИ, но на смену им регулярно прибывали новые. Формально наша группа Адама была сектором, которым руководил тоже представитель воронежской научной диаспоры, Вячеслав Михайлович Горожанкин. Таким образом, у нас было многоначалие: наукой в группе руководили Адам и Калинников, а формальными вопросами – Горожанкин.
То, что Адам не был назначен начальником нашего сектора, объяснялось нам политическими причинами. Дело в том, что до перестройки, во времена Чехословакии, Индра много лет руководил большим отделом ядерной спектроскопии в Институте ядерных исследований в городе Ржеж под Прагой, его отдел был не меньше, чем НЭОЯСиРХ, и как руководитель он поддерживал СССР и тесно сотрудничал с ним. Однако после Бархатной революции в Чехословакии руководство отдела в Ржеж сменилось на демократическое, и Адаму пришлось уехать в Дубну, где он и начинал свою научную карьеру. И тот факт, что Адама не назначили руководителем сектора в НЭОЯСиРХ, объяснялось нежеланием чешской стороны видеть начальником в Дубне своего прежнего руководителя отдела. Возможно, были и еще какие-то причины этого, но нас в них не посвящали. Уникальность ситуации и твердого характера Индры состояла еще и в том, что (и я буду еще обсуждать это ниже), оставшись без руководящей должности, он не только не забросил науку, как это частенько происходило на моих глазах с людьми, выпавшими из руководящей обоймы, но и многие годы продолжал быть лидером научных исследований в Отделе, находить новые научные тематики, публиковаться в ведущих журналах и готовить научные кадры как ни в чем не бывало. Есть, оказывается, научная жизнь и вне кресла руководителя, но, как мы поговорим ниже, статус иностранца в ОИЯИ для этого вещь крайне полезная. И о том, как статус и европейская ментальность Адама оказали мне неоценимую поддержку в защите моей собственной диссертации под его руководством, я расскажу в следующей главе.
Возвращаюсь к вопросу диаспор. Были в ОИЯИ и другие крупные диаспоры. Например, в Лаборатории высоких энергий, на другой площадке, там, где располагался воспетый Аллой Пугачевой синхрофазотрон (мне и на нем довелось поэкспериментировать, о чем в следующей главе), ее основатели и значительная часть видных научных руководителей были из МИФИ, я вернусь к этому, когда буду описывать свою работу в ЛВЭ. И многие традиции там в корне отличались от ляповских. Выпускником МИФИ является и Ю.Ц. Оганесян, бывший директор и научный руководитель Лаборатории ядерных реакций, той самой, где синтезируют сверхтяжелые элементы, ученик Г.Н. Флерова, выпускника ЛГУ. Выходцы из такого виднейшего вуза, как МФТИ, физтехи, только примерно с конца 1990-х начали формирование своей диаспоры в ОИЯИ и также вскоре стали занимать достойные места в его научно-административной иерархии, что немудрено. Как это ни покажется странным, несмотря на территориальную близость вуза (Долгопрудный находится на той же ветке электрички, что идет в Дубну), исторически выпускники этого вуза выбирали другие карьерные траектории. Я мало знаю о причинах этого, но расскажу о некоторых аспектах их подготовки к профессии в те годы, когда дойду до рассказа о своей учебе в УНЦ ОИЯИ, где мне довелось сидеть за соседними столами со студентами магистратур ведущих вузов РФ и СНГ.
Ну и, безусловно, наиболее видной и влиятельной диаспорой были представители МГУ. Достаточно посмотреть на директоров ОИЯИ: академики Д.И. Блохинцев, Н.Н. Боголюбов, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян – все они были выпускниками МГУ. Нынешний директор, академик Г.В. Трубников, хотя и был изначально выпускником инженерного вуза, но закончил также магистратуру МГУ как второе образование (и, таким образом, преемственность традиции была соблюдена). Другими директорами ОИЯИ были В.А. Матвеев (выпускник ЛГУ) и Деже Киш (венгерский сотрудник, что само по себе наделяло его высоким статусом как иностранца, а также выпускник известного Дебреценского университета, который закончил и философ Имре Лакатос, которого я упоминал раньше). Выпускники МГУ также занимали видные места в отдельных лабораториях, например Лаборатории теоретической физики, и руководили ими. Таким образом, руководили и руководят ОИЯИ и его подразделениями практически без исключения выпускники наиболее видных государственных университетов. Роль вузовских и национальных диаспор и, таким образом, пути, которым вы войдете в науку в определении вашего потолка, того, на что вы можете рассчитывать в своей научной карьере, и даже того, как к вам будут относиться ваши коллеги и руководители, – это и было одним из моих наиболее ярких наблюдений в первые годы работы в ОИЯИ.
Не скажу, что такое положение вещей тогда казалось мне несправедливым, но что неожиданным – это точно. Как оказалось, важно не только, куда попасть, но и каким путем (что означает, в какой роли и в каком качестве). Уже потом, проработав много лет в США, я убедился, что во всем мире этот феномен широко распространен, и все там это хорошо знают со школы. И хотя описание моего американского опыта требует отдельной книги, но кратко замечу, что в американской социологической и публицистической литературе давно и активно обсуждаются следующие факты. Скажем, по некоторым данным, в американских университетах и национальных лабораториях точно так же высшие административные должности занимают выпускники лишь нескольких ведущих университетов Лиги плюща, в том числе в физике. Например, руководство Национальной Ускорительной Лаборатории им. Э. Ферми, куда я попал впоследствии, а также ее теоретическая группа в основном были представлены выпускниками MIT, Гарварда, Принстона и Университета Чикаго; выпускники Гарварда, Кембриджа, МИТ и Беркли доминируют среди нобелевских лауреатов по физике и химии; эти же университеты получают больше всего грантов. Там это называют эффектом династий (когда люди с определенным академическим происхождением получают преимущества в достижении карьерных вершин) или даже эффектом «серебряной ложки во рту», когда люди, рождающиеся в привилегированных семьях, по праву рождения поступают в лучшие вузы и затем делают элитные карьеры. И хотя люди везде люди, да и законы общественного устройства зачастую сходны, но я не мог не отметить, что система династий и привилегий на Западе была несколько более изощренной, чем в СССР, РФ или ОИЯИ. Вот что в РФ и ОИЯИ было существенно отлично – это полное отсутствие (по крайней мере, на момент моей научной молодости) каких-либо гласных обсуждений этого неравенства, хотя и, возможно, вполне оправданного. О том, что в науке работники «всякие важны и всякие нужны», до сих пор слышно из каждого утюга, но вот вопрос, кому и для чего они нужны, никогда не освещался. Только попав уже в Институт некоторым путем, на своем опыте и из личных наблюдений мог молодой человек почерпнуть информацию, что и как здесь устроено в научном социуме. Мне представляется, было бы честно составить по ОИЯИ и другим научным организациям, как это сделано в США, рейтинг вузов по ученым степеням, званиям, должностям, зарплатам, научным наградам и прочим бенефитам, таким как время, проводимое в загранкомандировках, их выпускников. Это, безусловно, было бы ценнейшей информацией если еще не для самих абитуриентов, то для их родителей, которые смогут на пальцах растолковать своим чадам, что «направо пойдешь – одно найдешь, налево – другое».
С точки зрения привилегий, я мог считать себя родившимся с «серебряной ложкой» на уровне Череповца и на преимущества если и мог рассчитывать, то там же, например, при поступлении в филиал СЗПИ, где работал отец. Также некоторых небольших поблажек я мог, наверное, ожидать и после Политеха, в металлургии, где у отца оставались связи, например, если бы я выбрал карьеру металлурга. Может быть, потому отец и активно агитировал меня идти в металлургию, поскольку мог, видимо, мне обеспечить некоторую карьерную поддержку. Но молодым людям такие вещи сложно объяснить, они их обычно еще не ценят или имеют предпочтения, более связанные с «куда пойти», чем «кем стать». Уже в Техноложке, где у моей семьи не было никаких связей, не будучи коренным ленинградцем, я не мог рассчитывать на преимущества ни в поступлении, ни в учебе. Но именно выпускающая кафедра обеспечила мне канал попадания в Дубну, предоставив свою «сеть» контактов. Точно так же и американские университеты предоставляют своим даже непривилегированным студентам каналы попадания на практики и интернатуры, давая им шанс зарекомендовать себя в деле и получить работу, именно за это, например, на Западе платят огромные деньги за обучение, а именно, за место в «сети». В этом важнейшая функция современного вуза – помочь выпускнику устроиться на работу. Однако уже в ОИЯИ «высота» нашей «сети» ограничивалась руководством радиохимического сектора, и это был тот реальный потолок, который был достижим для выпускников Техноложки в ЛЯП.
Можно было пойти в ОИЯИ в физическую группу, что я и сделал, но там я уже не только не имел карьерных преимуществ, но и проигрывал выпускникам других вузов, у которых там были развитые сети. В такой ситуации, как я стал догадываться, с молодости оказался Стегайлов. Я не знал других выпускников Дальневосточного государственного университета, который он закончил, и никогда не слышал в ту пору о какой-либо диаспоре из этого вуза. Однажды на наш эксперимент на ЯСНАПП пришел ученый старшего поколения из ЛВЭ, он был научным происхождением из Воронежа и был довольно острым на язык. Мы все вместе с группой пили чай и много общались там на разные темы. Мне запомнилось, что он сказал мне, тогда еще плохо понимающему «расклады», что у меня даже больше шансов защититься в Отделе, чем у Владимира Ильича: «Калинников не хочет защищать Стегайлова, потому что тот не из Питера». Мне это показалось преувеличением, потому что, хоть по образовательной траектории я и был «из Питера», но не из ЛГУ, и в «сети» этого вуза контактов не имел. Но некоторая логика в этом, вероятно, была.
Защита диссертаций и стала следующим новым и неожиданным для меня элементом научной культуры ЛЯП и ОИЯИ. Это совершенно нераскрытая тема в социологии науки, и я лишь набросаю контуры моих наблюдений. Во-первых, я сразу узнал, что в ЛЯП и ОИЯИ в целом есть немало научных сотрудников, так и не ставших кандидатами наук до самой пенсии. В случае удачи (но без «династических» привилегий), то есть продуктивной и малоконфликтной научной группы и регулярных экспериментов, средний срок работы до защиты знакомыми оценивался в 10-15 лет (хотя хорошо бы иметь статистику, надеюсь, социологи доберутся до этого). Как я понимал, общаясь с научной молодежью за пределами ОИЯИ, это особенность всех НИИ в СССР и РФ, в отличие от вузовских аспирантур, где защита за три года была вполне реальной, если аспирант старается сам. Много позже, работая в Фермилабе, мне удалось пообщаться на эту тему с одним из бывших его директоров, Джоном Пиплзом. Рассказывая о своем видении ученых, приезжавших в Фермилаб из Дубны еще в 1970-е, Пиплз сказал, что ученая степень у них была больше, чем только степень. «Это ведь у вас как tenure (постоянная позиция)», – сказал он. В этом была глубокая мысль, действительно объясняющая часть из причин задержек с защитами. В США после защиты PhD человек обязан уйти из вуза, где защищался, он может стать только м.н.с на временном контракте (постдоком) в другом месте и должен отработать в среднем 2-3 таких постдока, как раз около 10 лет, пока получит позицию, ведущую к постоянной (tenure track), а затем и постоянную (еще лет через 5-10). В бывшем же СССР и ОИЯИ обычно устраивались сразу постоянно (или, с началом контрактной системы, на длительный срок с возможностью неограниченного продления), поэтому, в отличие от аспирантуры в университете, если человек защищался, то он обычно не планировал никуда уходить и не освобождал штатную единицу. Могло произойти перепроизводство квалифицированных кадров.
Но это, как я сказал, была лишь часть проблемы. Защитившийся сотрудник становился самостоятельным ученым, который хотел вести собственные исследования, а не ассистировать старшим, и ему нельзя было этого запретить. Он хотел расти по должности и квалификационно, но при этом руководящих должностей на всех не хватало (в научном мире ходит такая поговорка: «Слоненок маленький, на всех не хватит»). Я помню рассказанные мне истории, когда молодой сотрудник, отвечавший за поддержание в детекторах низкой температуры, при которой они должны постоянно находиться, для чего обязанный регулярно заливать в них жидкий азот, защитив диссертацию, разморозил эти детекторы, чем привел их в негодное состояние, видимо, не желая более быть привязанным к техническому обслуживанию оборудования. Если для обслуживания электроники в группах были профессионалы-инженеры, то такие технические вещи, как заливка азота, переноска свинцовых защит, были на научном персонале, тогда как мировой опыт таков, что этим вполне могли заниматься техники. Но техников в штате для этого никогда не было, и традиционным было возлагать это на молодых сотрудников. Для некоторых из них такая «молодость» продолжалась едва ли не до пенсии, пока хватало сил таскать дьюары с азотом и свинцовые кирпичи.
После защиты диссертации человеку требовался служебный рост, но для продвижения по научно-административной лестнице (то, что эти ипостаси сращены в науке, я уже упоминал) требовались, безусловно, личные качества и тяга к такой работе (хотя если через администрирование можно достичь положения и в науке, у кого только не будет тяги), но и нечто большее. Например, это поддержка «сети» из своего вуза. Это, как я говорил, есть и в Штатах. Кроме того, и в этом коренное отличие от науки в Штатах, вместо обычной конкуренции за административные позиции (тоже в основном между привилегированными, что обеспечивало преемственность), в ОИЯИ (и вообще, как мне кажется, в российской научной культуре) преемственность обеспечивалась преемничеством. Преемника или преемников на повышение заранее отбирали нынешние администраторы (это иногда было даже формализовано и называлось «кадровый резерв») и направляли по карьерной траектории. Помню один из разговоров с иностранным коллегой, когда разговор зашел об одном молодом талантливом российском ученом из Отдела, способном парне. «Очень умный парень, хороший физик», – отметил я. Мой собеседник с легким акцентом подтвердил: «Да, хорошо веденый, сделает хорошую карьеру». Как пояснил собеседник, под словом веденый он подразумевал, что его старшие коллеги выбрали и опекают, ведут по правильной, эффективной карьерной траектории, без ненужных отклонений и траты времени и сил на непродуктивные занятия. И он действительно оказался прав, этот молодой сотрудник в дальнейшем сделал прекрасную научно-административную карьеру в ОИЯИ.
Здесь нужно уточнить, что ничего противоестественного при этом не происходило. Как этот молодой сотрудник, так и другие, ставшие преемниками в должностях, во-первых, были, как правило, действительно и хорошими учеными, и способными администраторами. Во-вторых, и они в молодые годы и на заре карьеры не гнушались ни заливкой азота, ни тасканием свинцовых кирпичей. Все как у всех. Отличие было в том, что если не отобранным в преемники, как потом и мне, начальники поручали или намеревались поручить становиться на неограниченный срок основными ответственными за поддержание хозяйства и азота, либо даже в научной области поручали тупиковые, неперспективные вещи вроде запуска установок, на которые никогда не было ни средств, ни пучкового времени, ни научной перспективы (сизифов труд), то будущим преемникам поручали проекты перспективные, которые вели к диссертациям и загранкомандировкам, а затем и должностям. То есть система была настроена таким образом, что давала зеленый свет и открывала окна возможностей для отобранных, безусловно достойных, ребят, делая их «хорошо ведеными», то других, тоже неплохих ребят, но которые почему-то не приглянулись в преемники (или на них «слоненка» не хватило), ставили в «режим бесконечного ожидания», научно патовые ситуации, из которых хорошего выхода не было: либо быть у кого-либо «на подхвате» до собственной пенсии, либо уходить в другое место, хорошо если без скандала («как же, теряем работника!»), но всегда с недовольством, вот, мол, ему поручили (таскать воду в решете до пенсии), а он не довел дело до конца. Плохой работник.
Насколько серьезно пресекались попытки молодых ученых заниматься диссертацией без одобрения свыше говорят два примера, один из моей собственной биографии, а другой – из наблюдений за молодыми коллегами. Мой пример из самых первых лет работы в ЛЯП такой. Как одну из первых научных задач, порученных мне в группе, я взялся за анализ схемы распада диспрозия-152. Для вероятностей гамма-переходов, которые не наблюдались в спектре, я сделал оценку их верхних пределов по методике, подсказанной Индрой Адамом, да и задача была поставлена им же. Я взялся за дело с энтузиазмом. Не имея научного опыта, я работал над задачей, как над студенческими проектами ранее, спрашивая совета старших коллег, но затем самостоятельно воплощая их на практике. Группа готовила доклады на профильную международную конференцию по структуре атомного ядра, все писали тезисы, писал и я. Когда Калинников спросил, буду ли я, как другие, делать доклад в Отделе, я, конечно, подтвердил.
Но было два момента, которых я не учел, что привело к скандалу после моего доклада. Первое, я не согласовал текст и результаты с коллегами. Но это была, на мой взгляд, простительная ошибка для начинающего сотрудника, хотя другие, как оказалось, имели иное отношение к этому. Вторая ошибка была более серьезная. Я включил в соавторы, по образцу других докладов, сотрудников группы и некоторых химиков и сепараторщиков и поставил себя на первое место как докладчика (что оказалось наиболее серьезной ошибкой). Доклад в Отделе я сделал; даже, помнится, К.Я. Громов задавал вопросы, на которые я с удовольствием ответил. После семинара меня вызвали в кабинет Калинникова, где уже находились некоторые другие сотрудники, не помню, кто именно. И Калинников гневно принялся делать выговор, начав примерно с фразы: «Кто дал Вам право расставлять соавторов?» Вечером он устроил на ЯСНАППе импровизированное собрание группы, на котором уже заявил: «Мы в группе должны писать соавторов только по алфавиту!» Индра более мягким и примирительным тоном высказался в том смысле, что у нас в группе такие правила, и мы все должны их соблюдать. Мне казалось, все ожидали, что я буду спорить или даже уйду из группы, но я это видел другими глазами. Что и говорить, ситуация была довольно неожиданная и неприятная, кому нравится получать нагоняй, да еще и работая, как казалось, на совесть. Но я не видел в этом большой трагедии, за время службы в стройбате я привык и к гораздо большим неприятностям. Кроме того, я четко осознавал, что я пришел сюда учиться, и это мой первый «блин комом», тогда как мои коллеги не в пример более заслуженные и опытные ученые, и это, видимо, я чего-то не понял. Калинников грозно потребовал, чтобы я, как и все, принял правило публиковать общие результаты только по алфавиту и явно ждал возражений, но я легко с этим согласился. Если мне что-то и было действительно тогда неприятно, то это сам факт конфликта и ругани по этому поводу. Мне казалось, что, если бы мне это правило рассказали в рабочем порядке, а не как на «партсобрании», результат был бы не хуже. Однако, и именно это мне показалось странным, в коллективе этот вопрос хотя в нормальной рабочей обстановке вслух не обсуждался, стоял чрезвычайно остро. Именно то, что в рабочем порядке мне это правило объяснять не стали, косвенно указывало на возможную неоднозначность его толкований. Это было неписаное правило, но, если не от кого его услышать, приходится изучать на собственном опыте. Это неизбежно, если хочешь двигаться в профессии, главное, не шагать слишком широко сразу.
Неформально некоторые коллеги потом мне объясняли природу конфликта тем, что Адам всегда идет первым в списке по алфавиту, но мне это не казалось убедительной причиной, так как у него и так были сотни публикаций в ведущих журналах, и я не мог представить никакой особой выгоды для ученого от какого-то очередного ученического тезиса на конференции. Даже если она и была, я видел, что именно начальник Отдела занимал наиболее непримиримую позицию. Кроме того, я уже тогда замечал, что некоторые российские сотрудники хотели настроить меня против Индры, хотя я уже в первый год видел, что он был единственным продуктивно работающим ученым в группе (в плане научных публикаций и конференций), и если я у кого-то и смог бы научиться чему-то, то именно у него. Я решил просто работать и учиться, надеясь со временем лучше разобраться в истоках этих правил. В последующие годы, наблюдая и размышляя, я вынес для себя следующее.
Во-первых, алфавитный порядок в большой группе как бы уравнивал права всех соавторов на результат, тогда как первый автор не по алфавиту как бы «столбил» за собой права, заявляя, что именно его вклад в эту работу основной. Это, в частности, могло выглядеть как то, что представленные в публикации результаты войдут в диссертацию первого автора (там, например, есть требование внести основной вклад в защищаемые результаты). А кто, когда и над какой диссертационной темой будет работать – это здесь решает не молодой ученый, а начальство. Во-вторых, если в коллективе, где люди годами и десятилетиями вынуждены заниматься техническим трудом, обслуживая общие интересы, появляется молодой, научно амбициозный человек, с ходу начинающий писать себе диссертацию (о чем, например, свидетельствует первое место в списке авторов), у многих членов в группе возникает обоснованный рессентимент. «А мы? – думают они. – Почему мы столько лет не имели такой возможности? Чем он лучше нас?» Это не только подрывает боевой дух и настрой на совместную работу в коллективе, но и может привести к своего рода «итальянской забастовке», саботажу, когда никто в группе не будет заинтересован в хороших результатах. Вся работа может оказаться сорванной. Поэтому логика «все пока работайте, а там посмотрим» оказывалась единственно эффективной в таком культурном контексте.



