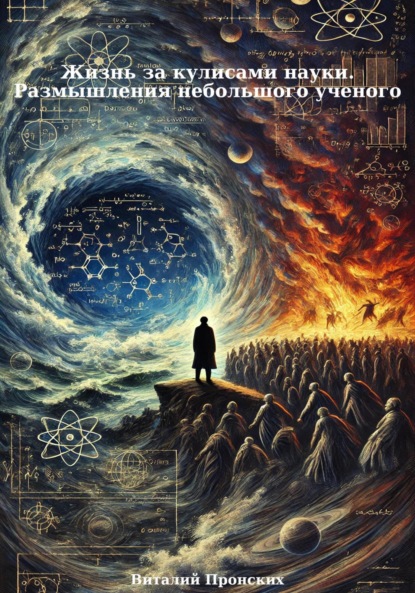
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
Была, как я потом заметил, и еще одна причина, по которой нашей группе публиковать свои статьи по алфавиту было гораздо выгоднее для всех нас, как мне самому представлялось. Эту причину можно считать наукометрической, связанной с «эффект Матфея». Как и у большинства групп в ОИЯИ, практически все статьи у нас выходили на английском языке в ведущих западных журналах. Работа наша была на мировом уровне в нашей области, и из публикаций мы узнавали о близких исследованиях, а другие группы в мире узнавали о наших. Мы нередко видели ссылки на наши исследования в работах мировых авторов. Наш научный руководитель, Адам, был узнаваемым человеком в ядерной физике, и, как и я сам позже имел возможность убедиться, на работы “Adam et al” в мировой физике ссылались и читали их гораздо чаще и лучше, чем, например, на “Pronskikh et al”. Эстетические, культурологические, научно-политические соображения в науке как социальном институте играют важнейшую роль, это наивно даже отрицать. Поэтому при всей кажущейся недемократичности подобной практики, она была вполне рациональной и имевшей под собой солидные основания.
Конечно, такая традиция была только у экспериментаторов, потому что оборудование, время на пучке, данные, – это все определенная собственность, ресурс. Формально все принадлежало Институту, это правда, но уже внутри Института кому-то нужно было выбить средства и закупить все детекторы, компьютеры, добиться выделения времени для работы на пучке ускорителя, а все это довольно сложно и трудоемко обслуживалось. Поэтому те, кто обладал этими ресурсами и их контролировал, безусловно, обладали приоритетом при принятии решений, кто и что анализирует и публикует. Совместно эксплуатируемое научное имущество – всегда корень раздора, во всем мире. Собственность на средства производства научного знания, как сказали бы марксисты. Этих традиций не было только у теоретиков, напротив, там быстро защищали кандидатские, а затем и докторские, публиковались в одиночку или малыми группами переменного состава, ездили по конференциям и получали гранты. Но были у них и свои трудности. Теоретики зачастую существовали по принципу «волка ноги кормят»: нужно искать себе темы, гранты, работу, так как постоянных мест для теоретиков много меньше, чем для экспериментаторов. Да и продление контракта или получение служебной квартиры для теоретика сложнее обосновать, ведь он не представляет ценности как лицо, обслуживающее, скажем, азотный танк, подобно экспериментатору. И если, говоря языком социологии, восходящая мобильность, из экспериментаторов в теоретики, практически отсутствовала, то обратный тренд, из теоретиков в экспериментаторы (или даже инженеры), существовал. Время от времени теоретики, которые не могли «держаться на плаву» в профессии теоретика, не выдерживая конкуренции, могли переходить в экспериментаторы или инженеры, я знаю такие случаи. Однако при всей сложности их существования, на публикацию результатов ограничений у них не было.
Продолжу тему экспериментаторов и теоретиков и их вертикальной мобильности. Хотя это два разных сообщества, я не называю такую мобильность горизонтальной по той причине, что социальный, точнее научно-социальный, статус теоретиков значительно выше, чем экспериментаторов и тем более инженеров. Это описала на примере Стэнфордской Ускорительной Лаборатории США Трэвик, и обнаружила те же черты, что я наблюдал в ОИЯИ. Как-то мне попалась на глаза показательная история, которая была, а возможно еще осталась, где-то на просторах интернета. Один (а может быть два, но для истории это неважно) талантливый молодой ученый, в возрасте до 30 лет, закончивший физический факультет одного из ведущих государственный университетов (из тех, что имели исторически мощные диаспоры в ОИЯИ) и попавший в экспериментальную лабораторию в ОИЯИ, вскоре осознал, что ему ближе и интереснее занятия теоретической физикой. Он отправился в Лабораторию теоретической физики к одному из известных физиков-теоретиков и популяризаторов науки и попросил дать ему задачу, занимаясь которой он смог бы овладеть аппаратом теоретической физики и стать теоретиком. Однако теоретик не предложил ему никакой задачи, а лишь сказал тому, что для занятий теорией необходимо сдать сначала теоретический минимум Ландау – ряд серьезных экзаменов по всем разделам физики – а лишь затем начинать свой путь в теоретическую физику. Молодой ученый ушел ни с чем и вынужденно остался в экспериментаторах. Некоторые в таких случаях просто уходили из ОИЯИ и даже из науки.
Анализируя причины этой ситуации и опираясь на личные наблюдения, я прихожу к следующим заключениям. На месте этого теоретика мог оказаться любой другой, это ничего бы не изменило, дело тут было не в личности, а в системе. Хотя, конечно, сдать экзамены теоретического минимума – вещь чрезвычайно полезная, я слышал, что некоторые студенты, например, Физтеха сдавали их чуть ли не на втором курсе, это еще вовсе не является достаточным условием успеха в профессии. Для того молодого человека, уже занятого в экспериментальной группе целый рабочий день, самостоятельная подготовка к сдаче экзаменов по знаменитому десятитомнику могла затянуться на годы. Но было ли это столь необходимым для начала? Насколько я понимаю, подавляющее большинство теоретиков в ЛТФ и ОИЯИ в целом вообще никогда не сдавали теоретический минимум Ландау, что не мешает им преуспевать. Почему же перед тем молодым человеком поставили технически невыполнимое условие?
В следующих главах я буду рассказывать, как я позже начал свой путь уже в философию именно с конкретной задачи, поставленной профессором-философом, и за годы занятий я смог параллельно освоить и все необходимые «философские минимумы». А философ – это же именно теоретик и есть, там не нужно ни азот заливать, ни имущество делить, лишь работать головой, и такой путь (с задачи) оказался возможен. Но чтобы понять, почему же физики-теоретики ОИЯИ оттолкнули того молодого и очень способного человека, можно обратиться сначала к антропологии науки. В своем известнейшем антропологическом исследовании, которое я уже упоминал, Трэвик уподобила сообщества экспериментаторов и теоретиков экзогамным племенам: им присущи те же ритуалы взаимного избегания (экспериментаторы смущаются появляться среди теоретиков в силу их более высокого статуса, а те среди них – в силу более низкого), отвергания (каждое считает себя более важным в науке), пищевое поведение (никогда не питаются вместе) и раздельная устная коммуникация (в каждом сообществе распространяются свои слухи). Таким образом, устойчивость научного института поддерживается тем, что эти сообщества избегают друг друга. Этакие внутренние сдержки и противовесы. Конечно, время от времени они ходят на семинары друг друга или обращаются за советом по научным вопросам, но это происходит в строго регламентированных контекстах, форме и ролях, в рамках социального института.
Формально ничто не мешало тому молодому ученому с прекрасным физическим образованием освоить недостающие теоретические знания, в таком возрасте мозг еще восприимчив к новому и легко учится. Но в рамках института и сообщества, если бы тот состоявшийся теоретик, к которому молодой ученый обратился, дал ему теоретическую задачу и начал ее с ним обсуждать, то есть начал бы его учить, передавать знания и профессиональные навыки, это нарушило бы «племенные» социальные и статусные границы, неписаные правила. А с ними и устойчивость системы. Кроме потенциально разрушающего эффекта на иерархическую систему статусов науки, это могло подать пример и другим талантливым представителям научной молодежи экспериментаторов, особенно неудовлетворенным множеством социальных ограничений, длительностью и неэффективностью для самореализации личности экспериментальных коллективов. Да и руководители экспериментальных коллективов, скорее всего, стали бы противодействовать такому переходу: способные молодые ученые нужны и самим экспериментаторам. Раз такова система, никто ни с кем не хочет портить отношения. Что, если все умные ребята стали бы уходить в теоретики, с кем бы остались экспериментаторы?
Поэтому, повторюсь, вход в науку ни в коем случае не произволен и исключительно важен. От того, через какую дверь вы войдете, экспериментальную, теоретическую, ускорительную или инженерную, физическую, химическую или биологическую, это сразу и, скорее всего, до конца вашей научной карьеры в данном институте определит и то, в каком диапазоне вы сможете решать научные задачи и какого потолка достигнете в профессии. Дальнейшие внутренние переходы если и будут иногда возможны, то не вверх, а вниз. При этом отдельные, единичные случаи, противоречащие этим правилам, есть. Но исключения – всегда исключения, и они лишь подтверждают правила. Если покопаться в этих исключениях, всегда можно найти те социальные механизмы и факторы, включая психологические, которые сделали их возможными. Поэтому идти в науку наобум, рассчитывая, что в случае чего станете исключением, – полагаться на случай.
Второй пример, из собственной биографии, такой. Вспоминаю, как в первые годы работы в ОИЯИ я освоил одну из новых ЦЕРНовских программ для решения оптимизационной задачи, которая использовалась в анализе гамма-спектров, и Калинников попросил меня рассказать о ее применении одному из теоретиков, который тоже заинтересовался методом для своих нужд. Когда я пришел в кабинет теоретика, тот четко сформулировал, что именно он хотел, чтобы я ему объяснил, завершив это фразой: «Но сотрудничество между нами невозможно!» Я тогда совершенно и не задумывался о перспективах сотрудничества с ним, мне казалось лестным уже то, что я могу рассказать нечто новое состоявшемуся ученому, да еще и теоретику. Я это делал ради науки как таковой. Но сам факт, что принципиальная невозможность сотрудничества со мной оговаривается изначально, неприятно меня поразил. Не могу исключить, что это ограничение предварительно оговорить мог с ним и сам Калинников. Но что я уяснил тогда, так это то, что я вошел в науку через экспериментальную дверь (хорошо, не через инженерную), и границы сообщества теперь были моими границами и потолком научной коммуникации в рамках ОИЯИ. Много позже, уже защитив диссертацию, я закончил постдок (это не только первая временная работа в США, но и уровень последиссертационного образования, вроде нашей докторантуры) в расчетной группе Фермилаба под руководством теоретика и стал специализироваться в модельных расчетах радиационного транспорта, но это уже было связано с переходом в другую организацию и переездом в другую страну. Там же я узнал и о том, что в рамках одной академической организации США даже молодой техник не может повысить свой статус и стать там же аспирантом, он должен уйти в другое место. Так что это явления вполне общемировые и отражают роль идентичности в научном сообществе.
Это все объясняет те различия, благодаря которым теоретики, входившие в свою социальную группу через «игольное ушко» академической и профессиональной фильтрации, имели совершенно другие стандарты квалификационного роста и публикации научных статей. Однако была и еще одна группа, уже среди экспериментаторов, для которой ни быстрые (точнее скажем, своевременные) защиты диссертаций, ни самостоятельные публикации своих статей не табуировались. Это были иностранные сотрудники. И дело было не только в их более высоком социальном статусе в нашей культуре, как я писал выше. Они приезжали обычно на определенный конкретный срок и по завершении его должны были продолжать карьеры в других местах. На их место их страны присылали новых сотрудников, поэтому проблемы сменяемости не было. Кроме того, если иностранный сотрудник, защитившись, желал остаться в ОИЯИ на более высокой должности, ему, несомненно, шли навстречу. В ОИЯИ, как международной организации, всегда были зарезервированы места заместителей директоров лабораторий и центральной дирекции для представителей стран-участниц. Ученые из стран-участниц охотно назначались и руководителями групп, секторов, отделов, прочих подразделений. Не столь значительное их число в руководстве ОИЯИ в постперестроечные годы было связано, на мой взгляд, лишь с недостатком иностранцев, желающих их занять, ведь это требовало от них на долгие годы осесть и пустить корни в Дубне, тогда как многих из них и их семьи привлекали возможности, открывавшиеся на Западе. Предложения заманчивой карьеры в ОИЯИ им делались, хотя немногие на это шли. Поэтому у меня есть основания полагать, что сам подход, что то, что не позволено таким, как я, российским сотрудникам, позволено сотрудникам из других стран, исходил именно из самой нашей культуры и системы взаимоотношений и артикулировался администраторами, которые и сами были российскими сотрудниками. Это не иностранцы, а наша собственная жизнь организована таким образом, что воспроизводит эти неравные отношения, ставя нас самих в низ иерархии, социальной и научной. Никто вас не колонизирует, если вы сами себя не колонизируете.
В том, что зачастую даже принадлежность к влиятельной вузовской диаспоре для российского сотрудника не избавляла от препятствий в защите диссертации, мы с другими молодыми сотрудниками НЭОЯСиРХ убедились на одной из предзащит, прошедших в Отделе. В нашей группе, как я упоминал вначале, работал профессор Цупко-Ситников, а его младший сын, Вадим, был радиохимиком. Вадим закончил МГУ и обучался в аспирантуре этого вуза. Научной работой по теме диссертации он занимался у нас же в Отделе, но в секторе радиохимии, где руководил Новгородов. Несмотря на то что аспирантура и сама защита были в МГУ, а в ОИЯИ он был прикомандирован для проведения исследований, если я правильно помню, через УНЦ ОИЯИ, где его руководителем или куратором был сам Вылов, даже при такой, казалось, железной поддержке Вадиму не удалось избежать конфликта. Я не очень разбираюсь в предмете его исследований, но корень претензий к нему увидел в следующем. Вадим, как и положено аспиранту, сделал академическую квалификационную работу, вполне самостоятельно, если судить по стандартам, принятым в аспирантуре вуза. Там была собрана или усовершенствована установка, проведены измерения, опубликованы статьи. Но едва Вадим закончил доклад, раздались гневные выступления, смысл претензий в которых, если вкратце, сводился, на мой взгляд, к следующему. Подобная установка не была уникальной, да и сам Вадим не провел на ней всю жизнь. Наш формальный начальник сектора, Горожанкин, произнес сакраментальную фразу: «А еще нам не разрешали защищаться до 35 лет!» К этой фразе для меня свелся весь смысл претензий старших коллег.
Проблема была в том, что к диссертации требования были столь расплывчатыми, что их можно было трактовать произвольно! Иначе говоря, при желании от кандидатской диссертации можно было (неформально) требовать чуть ли не открытий действительно нобелевского уровня. Устроив Вадиму большую нервотрепку на семинаре, требуемое решение научно-технического совета ему все же выдали, и он в итоге защитился-таки впоследствии в МГУ. Все же «сети» поддержки кое-что значат в науке, хоть и препятствия чинили как могли, но на уровне документов формально отказать не посмели. Но для себя мы с некоторыми другими ровесниками уяснили: нам без сильной поддержки и соваться нечего, остановят на подступах. Тогда я уже начал понимать следующее. Во-первых, я еще действительно мало что умею в науке, надо учиться, отложив мысли о диссертации на более поздний срок. Во-вторых, можно было думать о переходе в другие группы, но я видел, что эти традиции везде сходны. Более того, попав в любую другую группу, где существует сложившаяся система взаимоотношений, несмотря на возраст и стаж, ты снова становишься «молодым» в армейском понимании этого термина, то есть наименее привилегированным членом коллектива. Становишься в хвост очереди на все. Но как же важно для человека движение по профессиональной лестнице без искусственных задержек! После защиты Вадим уехал во Францию, быстро нашел отличную работу по специальности и прекрасно там обосновался, как говорили, в тонкостях овладев французским языком. Я сам уехал за рубеж уже после сорока, и должен сказать, есть большая разница между способностями адаптации человека к новым условиям в двадцать и сорок. Хотя в моей ситуации, и в сорок – это сильно повезло. Но об этом – в других главах.
Тем временем, несмотря на активную вовлеченность в эксперименты и обработку данных, ситуация как для меня, так и для бывшего однокурсника Андрея осложнялась. Я не совсем помню, как развивалась ситуация, но со стороны Калинникова, а затем и Стегайлова стало проявляться все больше недовольства к нам. Калинникова неформально называли Шеф, скорее всего потому, что он был некогда утвержден научным руководителем Стегайлова по диссертации, которую тот так и не защитил, и, возможно, других сотрудников, но с тем же отрицательным результатом. Анализом данных экспериментов занимались Адам и Калинников, но и Андрей, и затем я тяготели обсуждать работу с Адамом. Владимир Ильич работал с Шефом. Он распечатывал на принтере огромные рулоны спектров и относил в кабинет Калинникова, где они по вечерам сидели допоздна, их анализируя. Шеф был человек старой закалки, он не любил компьютерную обработку данных и даже рисовал спектры на миллиметровке, обрабатывая карандашом и линейкой. В отличие от него, Адам предпочитал компьютерную обработку, мы с Андреем писали программы и потом совместно их применяли, так же, как и много готовых спектроскопических программ, в первую очередь написанных чешскими сотрудниками в Ржеж. У Шефа было много аргументов, почему компьютеры – это плохо для науки, но результат говорил сам за себя: если под руководством Адама мы регулярно публиковали не только тезисы международных конференций, но и хорошие статьи в ведущих журналах, то из-под пера Калинникова выходила в основном пара тезисов на совещание по ядерной спектроскопии в год.
При этом Калинников сначала настаивал, чтобы я продолжал больше работать со Стегайловым, хотя тот мало занимался обработкой, в основном хозяйством. Я не был против помогать в хозяйстве, понимая, что это наша общая обязанность, но по настроению старших коллег я угадывал, что этого недостаточно. Я чувствовал, что меня подталкивают к тому, чтобы я перестал стремиться заниматься наукой, а стал именно сотрудником, ведущим хозяйство. Калинников все время посылал меня то на некие курсы специалистов по азотным танкам, то еще на какие-то подобные мероприятия, но мне не нравилось, что это расценивалось не как вклад и помощь коллегам, а как альтернатива научной деятельности, своего рода основная обязанность и карьерная траектория. Возможно, Техноложка, воспринимаемая окружающими как инженерный вуз, сослужила тут нам не лучшую службу, поскольку в нас видели потенциальных техников. Других объяснений у меня не было. Требования коллег заниматься хозяйством были все менее доброжелательными, чувствовалось, что нас считают обязанными брать на себя ответственность за хозяйственные дела вместо научных. Иногда эти требования принимали форму грубости.
Но здесь произошел неожиданный поворот. Андрей женился на дубненской девушке, кто-то из родителей которой работал в Лаборатории ядерных реакций, хотя и не ученым, но видимо знал там ситуацию. Я не знаю, как шел этот процесс, но Андрею предложили перейти в ЛЯР, в группу, занимавшуюся чем-то похожим на задачи сектора Новгородова. Когда же Андрей объявил о своем переходе, негодованию Шефа не было предела, мне кажется, его это расстроило даже больше, чем Адама, с которым, собственно, Андрей и занимался научной работой над статьей. Шеф топал ногами и угрожал Андрею: «Я сейчас подниму трубку, позвоню в ЛЯР, и такое про тебя скажу, что ты такой плохой работник, что тебя вообще никуда не возьмут!» Однако его взяли, он с радостью ушел от ситуации прессинга, а я же подумал про себя: «Вот это попал в кабалу, отсюда и не отпустят еще подобру, даже если найду место получше!» Моя собственная ситуация осложнялась еще и тем, что, как я писал выше, в отличие от Андрея, который, как холостой, оформил распределение в ОИЯИ с социальными гарантиями в постоянный штат, я был принят по контракту, который я должен был просить Калинникова продлевать каждые три года. Не угодишь Шефу – и поедешь куда глаза глядят. «Вот и приехал за Нобелевской премией!» – думал я печально.
Такое отношение Калинникова к нам с Андреем, на мой взгляд, определялось его общим недовольством своим положением, хотя мне это сложно было примерить на себя, видимо, амбиции людей сильно разнятся. Мне тогда казалось: профессор, начальник научной темы и отдела, живи, работай да радуйся! Но Шеф это видел иначе. Я не знаю, как они анализировали данные со Стегайловым на миллиметровой бумаге, но уже во второй половине 1990-х говорить с ним о науке было практически невозможно, страшно даже было подходить. Часто в своем кабинете при открытых дверях либо даже расхаживая в коридоре перед кабинетом с утра пораньше, он только и делал, что громко поносил Ельцина, власти, демократов, дирекцию, да и всех коллег подряд. Он по поводу и без такового рассказывал о причине своего недовольства дирекцией ОИЯИ, и у этого была предыстория. Как выяснилось, он был не простым профессором. Шеф отработал несколько лет третьим, по-моему, секретарем горкома КПСС. Это ему помогло, в частности, быстро защитить докторскую в форме научного доклада (без написания монографии), что допускалось лишь в особых случаях. После этого он стал начальником отдела. Но, по утверждениям самого Шефа, высказанным неоднократно и многим, дирекция за годы, проведенные им в горкоме КПСС, обещала не только отдел, но и сделать его директором ЛЯП. И тут грянула перестройка, и прежние обязательства, данные партийными боссами, перестали соблюдаться. Директором ЛЯП был назначен болгарский ученый Вылов, а Калинников так и остался начальником отдела.
При всем этом мне всегда было интересно, как у людей, «срезавших многие углы» на карьерном пути, не оставалось эмпатии даже к тем, кто шел прямо, не минуя ни одной кочки. Я это наблюдал эту черту потом у многих удачливых в ранней и скорой карьере. В разговорах о диссертации, которые, как я быстро понял, с ним лучше не вести, Шеф, переходя с шутливого тона на серьезный и обратно, озвучивал примерно следующий нарратив. Первой фразой обычно было: «Конечно, посмотри сколько у нас материала, – тут он показывал в угол кабинета, где пылились годами рулоны со спектрами на миллиметровке, – да здесь на две докторских наберется, бери и занимайся!» Я потом эту фигуру речи про «две докторских» слышал и в других местах, она, видимо, была некогда популярной. По мере развития разговора следующей повторяющейся фразой было: «Сейчас нам не нужно докторов, у нас работать некому! Зачем нам еще доктора? Если кому нужны доктора – пусть ко мне обращаются, я – целый профессор!» И в завершение – уже более примирительно: «Ладно, идите работайте. Вот когда я уйду на пенсию – тогда и делайте и защищайте что хотите». Итак, круг замыкался, все возможно будет, но потом. И мне, и некоторым другим молодым ребятам говорили в ту пору одну и ту же фразу: «Ты работай, а время придет – тебе доктора диссертацию напишут». Кому-то, видимо, писали. Помню защиты кадров из некоторых стран СНГ, когда на банкете по поводу защиты старшие поднимали традиционный тост: «За кандидатские, потому что они лучше докторских: докторские пишут кандидаты, а кандидатские – доктора», – имея в виду роль руководителя в написании диссертации своему аспиранту. Но все, кто на это надеялся в моем положении, – так и остались незащищенными. Да мне и не хотелось никогда помощи в написании, мне все хотелось делать самому.
Общаясь с ровесниками из других лабораторий и отделов, я узнавал, что такие Шефы были и такие отношения царили во многих местах, наш НЭОЯСиРХ не был уникален. Но к чему я никак не мог привыкнуть, так это не только сами нравы, окружавшие карьерные лестницы, сколько грубость и подчас неприкрытое хамство, с которым старшие по званию и должности люди обращались с подчиненными и младшими. На мое удивление мне с ходу привели в качестве примера одного крупного руководителя, сказав: «Ну и что, мы помним его молодым, он сам таскал дьюары и на него орали, а теперь – он сам ходит и на всех орет. Это нормально». Почему-то запомнились моменты, когда разъяренный Шеф ломился в закрытую дверь одного пожилого коллеги, чтобы накричать на того, но его, к счастью, не оказалось на месте. Или рассказ о том, что Шеф сам так довел стипендиата из Ирака, приехавшего писать диссертацию, своими придирками, что уже тот ломился в закрытую дверь Шефа, чтобы сказать все, что о нем думает. Он потом так и уехал домой, не защитившись, и вскоре его не стало. Таких ситуаций было немало. Глядя на все это, я уже тогда думал, что если когда-нибудь сяду и опишу все это, то предпошлю книге эпиграфом строки из песни Макаревича: «Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену, С той стороны, где дверь "Служебный вход", Где все имеет подлинную цену, Где все не так, где все наоборот».
Уже зная, что такие отношения царят повсеместно, я и не думал серьезно перейти куда-то в другое место. Ядерной физикой занимались и в ЛЯР, той лаборатории, где создают те самые сверхтяжелые из книги Флерова и Ильинова и куда ушел Андрей, но у меня там не было связей, и она сама у меня вызывала противоречивые чувства с первых лет работы в ОИЯИ. Дело в том, что тогда в городе произошло самоубийство одного высокостатусного ученого из этой лаборатории. Разнося азот по детекторам и зайдя для этого в одну из комнат, я услышал обрывок разговора об этом печальном событии между двумя сотрудниками. «Зря он это сделал, ведь мог бы там даже директором стать», – говорил один голос. «Мы ведь не знаем, как там с ним поступили», – начал было второй, но увидев меня, коллеги прекратили беседу. Я так и не до конца понял, в чем там было дело, но даже наблюдая за отношением к нам, молодым, некоторых наших собственных начальников, было очевидно, что небольшая инициатива научного роста, доклад или диссертация, если ты не назначен ими самими для этой роли, может вызвать конфликт и жесткий прессинг с их стороны. И я легко мог себе представить, что там, где ставки выше, где люди борются за реально высокое положение или высшие награды и почести, давление многократно сильнее. Получалось, ученый должен быть волевым, хитрым, изворотливым, а также умеющим находить поддержку сильных мира сего, интриговать, опираться на сети поддержки, без этого нет успеха. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать, вспоминал я пословицу. Догадывался ли я хоть о чем-либо подобном, когда стремился в науку? «А ты еще о Нобелевской премии в школе думал, – говорил я себе, – тут дай Бог квартальную получить».



