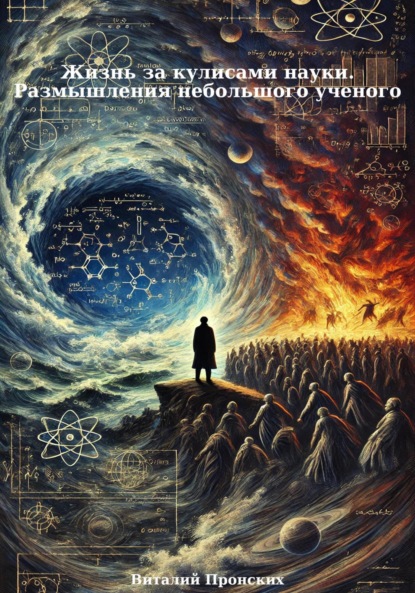
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
Тогда для меня, студента 4-го курса, это было откровением. Здесь, в известном международном институте, где все занимаются познанием окружающего мира, оказывается, отношения между людьми далеки от идеальных, есть много проблем. С одной стороны, причина такого удивления кроется в моей тогдашней наивности: общество и человек устроены таким образом, что конфликты интересов есть везде, где есть люди, надо только их минимизировать и разрешать по возможности, но принципиально устранить невозможно. С другой, восприятие конфликтных ситуаций зависит от человека и его оптики. Когда социологи хотят понять характер человека, то спрашивают его не о нем самом, а о его окружающих. Не «злой вы или добрый?», а «больше ли среди ваших окружающих людей злых или добрых?». Человек отражается в обществе, как в зеркале. Но при этом мало кто рождается определенно злым или добрым, человека воспитывает и лепит среда и окружение, культура, а он впоследствии уже воспитывает других. Но для раскрытия этой темы надо перейти к следующей практике в Дубне, уже после 5-го курса, в 1993 году.
Между летом 1992 года и следующей практикой в Дубне прошел год, который я посвятил подготовке к ОИЯИ. Жил я к тому времени с женой и двумя детьми в поселке им. Морозова (называемом в народе Морозовка) под Петербургом, примерно в часе езды на электричке с Финляндского вокзала. Когда я после армии женился на бывшей однокласснице, Техноложка отказалась предоставлять нам общежитие, так как формально Света уже не была студенткой, она успела закончить филологический факультет в Вологде. Наступали времена «бандитского Петербурга», и все такие вопросы наверняка решались деньгами, нам это объясняли, но денег у нас не было, да и знания, к кому и с чем подойти, тоже. К счастью, жене удалось найти место учителя в школе в Морозовке, и нам выделили комнату в деревянном рабочем общежитии, построенном еще для немецких инженеров Шлиссельбургского порохового завода в 19 веке, с туалетом на этаже, общей кухней и без горячей воды, где мы и жили до самого отъезда в Дубну. Когда появились дети, в 1990 году дочь Женя, а в 1992 – сын Артем, я продолжал учиться и готовиться строить наше будущее в Дубне, живя в основном в Морозовке, но обитая и у друзей в общаге Техноложки, в в студгородке на Новоизмайловском проспекте. Я посвятил этот год двум основным подготовительным занятиям, которые считал самыми перспективными. Одно было изучением английского языка. В ту пору многие начали заниматься английским, чтобы ездить за рубеж, а уж для работы в ОИЯИ, где английский – рабочий язык, он был просто необходим. Я приобрел четыре тома учебника Бонк, очень популярного тогда, а также синий учебник Murphy и часто проводил вечера, делая упражнения. Ходил я и на некий факультатив в Техноложке, но он показался мне пустой тратой времени.
Второе, чем я занимался, было программирование. У меня был компьютер ZX Spectrum, на который я загружал язык Cи с магнитофона и писал дома программы (Бейсик был встроенной его операционной системой). Вместо монитора Spectrum подключался к телевизору, и я гораздо чаще использовал телевизор именно как монитор, чем по основному его назначению. Я не преследовал конкретных целей, но практиковался с численными методами вообще, не забывая, конечно, и поиграть в игры. Кроме того, в Техноложке я еще курса со второго посещал по своей инициативе компьютерный класс, где стояли компьютеры ДВК, на которых удавалось что-нибудь программировать, и даже однажды напечатал там курсовую работу по вычислительной математике на примитивном редакторе, что с непривычки заняло весь семестр, много дольше, чем собственно решение краевой задачи про пластину из этой курсовой. «Ну и зачем это?» – только и спросил завкафедры вычмата, принимавший курсовую. «Компьютер осваиваю», – говорю. Тот только пожал плечами. Оценку это не повысило. Но компьютеров, совместимых с IBM, практически не было и на пятом курсе, когда я вернулся с первой практики в ОИЯИ.
После занятий я уезжал то в Морозовку, где перестирывал пеленки, кипятя для этого воду в ведре нагревателем, программировал и учил английский, то в общагу. Общага давала мне опыт другого плана, чем жизнь в семье. Там я жил в комнате с друзьями-однокурсниками из других групп, Сергеем Горбатенко и Азгаром Ишкильдиным, и мы много дискутировали с ними обо всем интересном, обычно вместо подготовки к занятиям. Больше, чем учебной литературы, я перечитал там одних трудов Карлоса Кастанеды, которые мы затем бурно обсуждали. Этот автор в 1990-е в Питере был на пике популярности. Читали и обсуждали мы все подряд: справочники по магии, астрологии, судебной медицине, индийской философии, физической химии, открытии нейтрино (была книжечка у Сергея), журнал «Вопросы философии», книгу Экклезиаста, приводили в гости знатоков лозоходства и питания праной, постоянно слушали новую музыку. У Азгара был абсолютный слух, и когда мы с Сергеем хотели спеть под гитару песню, которую не могли подобрать сами, то просили Азгара расставить мне пальцы на грифе гитары так, чтобы при игре получился нужный звук. Он активно был вовлечен в правозащитную деятельность и гражданский активизм, съездил в Америку, и мы много спорили о Солженицыне, Новодворской, либерализме. Азгар был наиболее продвинут в гуманитарных вопросах, и мы иногда пытались даже подобраться к вопросам философии сознания. «Вот объясни, почему, например, я – это не ты, а ты – это не я?» – спрашивал я. Хороших ответов у нас не было. Я задавал этот вопрос и родителям в детстве, но тоже безуспешно. Общественная жизнь тогда била в Питере ключом, выходило много новой и переводной литературы, у Казанского собора постоянно собирались группы для дебатов на любые темы. Поэтому собственно учебой мы практически не занимались. Насытившись общением, я уезжал к семье в Морозовку, где в спокойной обстановке вновь налегал на английский и программирование.
Некоторые ребята из нашей общаги и с курса пытались заниматься «бизнесом», который тогда только набирал силу, изначально приобретая криминальные черты. Казалось, это была возможность выйти из беспросветной бедности, прокормить себя и семьи, но очень ненадежная и рискованная. Например, некоторые начинали с того, что арендовали грузовик, ездили по дворам и принимали бутылки по 19 копеек, а сдавали их на базу по стандартной цене 20 копеек. Устанавливали связи с магазинами и базами, занимаясь «продажами», то есть сбытом товаров. Одному из них удалось раскрутиться, создав полиграфический бизнес, но так везло немногим. Было много рассказов про криминал, разборки, повсеместную коррупцию. Помню рассказ друзей о том, что группа ребят в те годы решила начать пивной бизнес. Они купили аппарат для пивоварения, нашли оригинальную рецептуру и специалиста и стали варить малые партии крафтового пива в нестандартной упаковке, сбывая самостоятельно в торговых местах Питера. Сначала необычное пиво, которого еще не было тогда на рынке, никто не покупал. Затем его распробовали и стали разбирать с такой быстротой, что они едва успевали варить. Пошла прибыль, ребята стали думать о расширении производства. Но внезапно налетели бандиты, всех зверски избили, разрушили производство, отняли документацию и сказали, чтобы больше в этот бизнес не совались, а то убьют. Произошел, как потом стали говорить, рейдерский захват. Пивоваренный бизнес, как и другие прибыльные статьи, «взяли под себя» крупные криминальные группировки. В легендарном фильме «Бандитский Петербург» тот период показан довольно правдиво, хотя и чересчур романтизированно, в жизни все было гораздо отвратительнее. Ежедневно слушая рассказы однокурсников о буднях жизни в бизнесе (многие из которых стали бывшими однокурсниками, бросив учебу, так как эти занятия требовали всего времени), я все больше убеждался, что это не для меня, да и им в общем-то счастья не принесло. Лучше уж я налягу на науку, все больше пользы будет.
Менее успешными были попытки погрузиться в классическую ядерную физику. Между практиками я периодически садился читать «Модели ядер» Айзенберга и Грайнера, которую мне дали в Дубне, но продвинулся недалеко, так как не хватало теоретической базы. «Ничего, буду разбираться на месте», – думал я. То, что для работы в науке нужно еще много в чем разбираться, мне стало очевидно с первого же приезда в ОИЯИ. Приходя в Институт, я внимательно изучал весь стенд при входе на площадку ЛЯП, где размещались объявления семинаров всех лабораторий, конференций и концертов. Большинство понятий, встречавшихся там, были мне незнакомы. Я еще более или менее понимал, о чем были семинары ядерщиков, в первую очередь экспериментаторов, но вот «высокая» теория и физика высоких энергий – это было непривычно. Например, вспоминается, что, разглядывая объявление о теоретическом семинаре на тему Стандартной Модели, я долго изучал нотацию SU(3)xSU(2)xU(1), размышляя, что же это может означать. Но я был уверен, что уж здесь-то я обязательно разберусь в этом, так как это понимают, видимo, все нормальные дубненские ученые, одним из которых я себя видел в будущем. И я разобрался позже, как буду писать в следующих главах, закончив Учебно-научный центр (УНЦ) ОИЯИ, уже после Техноложки.
В области ядерной физики на инженерном уровне кафедра в Техноложке готовила неплохо, хотя было начало 90-х, и образование, как и наука, повсеместно разваливалось. Прикладная ядерная физика, преподававшаяся доцентами Теплых и Платыгиной, учениками Петржака, дала нам твердые представления о радиоактивных ядрах и распаде (по крайней мере, «е в степени минус лямбда тэ» отскакивало от зубов). От нас требовалось выводить и анализировать «вековое уравнение», понимать принципы работы реакторов, деление урана, «иодную яму» и то, что произошло на Чернобыле, с физической стороны. Были практические курсы, где мы измеряли альфа-, бета- и гамма-радиоактивность и дозиметрию, преподавалась физика твердого тела (доцент О.А. Никотин глубоко копал теорию вопроса), разделы квантовой механики (в рамках квантовой химии, читавшейся завкафедры И.А. Васильевым). Читались и некоторые радиохимические дисциплины. Многие важные дисциплины, однако, преподавались действительно на инженерном уровне, феноменологически и без глубокой теории, как, например, «фазовые превращения», преподаватель которых по причине голодных 90-х был более занят на кафедре расфасовкой каких-то удобрений на продажу, чем развитием курса. Или курс «Mатериалы атомной техники», который давал глубину понимания строения материалов, годный разве что для закупки оных материалов, а не физических исследований с ними (зато профессор Лоскутов был отзывчивым и всегда позитивным преподавателем, с шутками и прибаутками). Декан Штанько, правда, пытался осовременить и актуализировать свой курс радиационного материаловедения, например давая нам вручную разложить гамма-спектр из двух-трех накладывающихся гамма-пиков из распада радиоактивного изотопа и требуя определить энергии и интенсивности компонентов. Только результат почему-то ни у кого не сошелся с ответом. Иначе говоря, студенты были подготовлены заниматься дозиметрией, управлением реактором (были выпускники и на атомоходах, и вроде бы на подлодках), спектрометрией.
Но вот так называемые «чистые» научные исследования (я сознательно избегаю здесь термина фундаментальные) требовали еще большей глубины познаний. Например, из курса экспериментальной ядерной физики нам была известна капельная модель ядра Бора, модель оболочек, общеприменимые полуэмпирические формулы, такие как формула Вайцзеккера для энергии связи ядра. Но вот более продвинутые модели: обобщенная, модели ротационных и вибрационных состояний, ядерные деформации, квантовые числа Нильссона, правила запрета для переходов – все это предстояло изучить самостоятельно либо как-то еще, но уже в ОИЯИ, поскольку это было именно то, что исследовали и обсуждали в будущей «нашей» группе в РХЛ, о которой немного ниже. И мне хотелось изучить большее, чем только физику ядра. Например, было очевидно, что протоны и нейтроны – нуклоны (так как они в ядре) и барионы (закон сохранения). Хорошо, есть нейтрино, косвенно оно объяснило спектр бета-распада ядра, да и в популярной литературе читал в общаге. Ну, в крайнем случае, зачем термин «фермионы» (некоторое знакомство со спином и статистикой Ферми было, например, из атомной физики, благо, принцип Паули на классическом примере рассадки людей в автобусе рассказывали еще на первом курсе). Модель Молекулярных Орбиталей в химии, например. Ну ладно, в ядрах возникали и пионы, хотя дела мы с ними не имели. Но вот есть различные К-мезоны, мюоны, эта-мезоны, тау. Кварки. Аксионы. Все эти названия встречались на доске объявлений, причем много чаще, чем, скажем, деление ядер, но если я и принимался читать об этом, то с небольшим успехом: интернета еще не было, и найти правильную литературу я намеревался уже на месте.
Вновь пришло лето, уже 1993 года, и я снова поехал на практику в Дубну. Андрей Грауле со мной больше не поехал, он решил остаться на работу в родном городе. Но со мной поехали два других однокурсника, Андрей Приемышев и Дима Философов. Я не помню, как в деталях происходило распределение по группам, но Новгородов был химиком, и ему нужен был химик. Дима тоже хотел заниматься химией, и он сразу приглянулся Федорычу. Мы же с Андреем сказали, что нас больше интересует физика и мы хотим работать в физических группах и специализироваться в ядерной физике. Новгородов, услышав, что я хочу заниматься физикой, полностью самоустранился, его это не интересовало. «Иди тогда, сам ищи себе начальника», – только и напутствовал меня он. Если меня что-то и удивило тогда, то только почему искать не научную задачу, или, скажем, коллег, а начальника? Это я понял позже. Тогда же проблема была в том, что я никого не знал, не знал, кому доверять и к кому обратиться, никто не мог дать мне совет. Все, что мне приходило в голову, – совет отца, что, если не знаешь, как поступить, «надо ввязаться в драку и смотреть по обстоятельствам». Всегда можно ошибиться, но если ничего не делать, то ничего и не выйдет совершенно точно. И я пошел на ЯСНАПП, где я знал хоть что-то и кого-то с первой практики.
Там мне повезло. Как я писал ранее, на ЯСНАППе на ионопроводах размещалось несколько установок для ядерной спектроскопии, и, находясь там, я увидел весьма благообразного ученого с седеющей бородой и задумчивым взглядом, словно сошедшего с картины или фотографии будней научного института. В белом халате, он колдовал у одной из установок, в которой шесть дьюаров размещались кругом, а из них торчали буквами Г германиевые детекторы, направленные к центру. «Вот это и есть, наверное, известный дубненский ученый», – подумал я, подошел к ученому познакомиться, и мы разговорились. Им оказался научный сотрудник Владимир Ильич Стегайлов, а установка называлась Многодетекторные угловые корреляции (МУК). Годы спустя я вспоминал, что название установки сразу показалось мне несколько неблагозвучным, напоминало «Хождение по мукам», а ведь как назовешь корабль, так он и поплывет. Но тогда я не придал этому большого значения. Хоть и непривычно для уха, но назвали же здесь всю лабораторию ЛЯП, ничего, стоит! Владимир Ильич проявил доброжелательную заинтересованность, рассказал, как занимается структурой атомных ядер в международной группе, где работают также немецкий и много чешских специалистов. А сам он был с Дальнего Востока, учился во Владивостоке. Я побывал в ним на втором этаже ЯСНАПП, где группа занимала помещения, где мне показали электронику детекторной системы, схемы совпадений, усилители сигнала, детекторы и специальный магнитофон для записи данных на магнитную ленту. По дороге со второго этажа на первый он попросил меня помочь ему отнести вниз свинцовую пластину для защиты детектора. «Спина не болит?» – участливо спросил он меня перед этим. А внизу со смехом резюмировал: «Физика начинается с физического труда!» Все выглядело замечательно: ядерная физика, иностранцы, загранкомандировки, ученый как с картинки – все, как я представлял еще в школе. Стегайлов сообщил о моем интересе прийти в группу Калинникову, который, как оказалось, курировал эту группу лично, и тот активно это поддержал. Я провел практику в этой группе, знакомясь со схемами распада ядер, и, когда мне предложили приехать снова уже писать диплом о схеме распада короткоживущего ядра, я сразу и с энтузиазмом согласился, я был к этому давно готов.
Через пару месяцев, соблюдя формальности и оформив бумаги в Техноложке, я приехал уже на дипломную практику в группу, где работал Стегайлов, и приступил к работе над дипломом. Тогда я познакомился с другими членами группы. Это были ее научный руководитель физик Индра Адам из Чехии, чешские же инженеры Франта Пражак и Павел Чалоун, профессор Всеволод Михайлович Цупко-Ситников, специалист по автоматизации эксперимента, преподававший по совместительству в дубненском филиале НИИЯФ МГУ, и немецкий специалист по компьютингу в физическом эксперименте Гюнтер Крайпе. Все иностранцы хорошо говорили по-русски. Работая над дипломом, я в основном общался со Стегайловым, Гюнтером, Франтой и Павлом, а Индру и Всеволода Михайловича видел редко.
В качестве дипломной работы мне предложили исследование схемы распада редкоземельного изотопа иттербий-157 с периодом полураспада 36 секунд. Для меня тогда это казалось пределом технического совершенства ядерного эксперимента. В танталовой мишени под действием пучка протонов Фазотрона с энергией 660 мегаэлектронвольт возникало множество ядер-продуктов расщепления, в которых масс-сепаратор, установленный между Фазотроном и ЯСНАПП, выделял изотопы с определенным отношением массового числа и заряда. Иначе говоря, он не мог выделить чистый изотоп иттербий-157, там присутствовал еще фон других изотопов, и для их отделения требовалась обработка данных и физическая интерпретация, подчас весьма сложная. Более чистый изотоп можно было выделить затем радиохимически – это то, чем занимались в секторе Новгородова и куда пошел Дима Философов, но при периоде полураспада в 36 секунд химическое разделение было нереальным. В нашем эксперименте ядра с нужным отношением массы к заряду летели по ионопроводу, где был откачан высокий вакуум (этим тоже занимался Стегайлов), и попадали в центр установки МУК на узкую ленту. Получив порцию ядер, лента продергивалась ниже и оказывалась между шестью полупроводниковыми детекторами, стоявшими в одной плоскости и «смотревшими» на нее со всех сторон. Некоторое время шло измерение, когда детекторы, включенные в схему совпадений, записывали энергии влетевших в них гамма-квантов и временную метку, позволявшую потом восстанавливать последовательность сигналов и времена жизни уровней ядра, которые разряжались этими гамма-квантами.
Мне дали компьютер, свежеизмеренные данные гамма-гамма-совпадений были записаны на магнитных лентах, и значительную часть дипломной работы составляло написание программы на языке Паскаль для управления магнитной лентой, чтения и сортировки совпадений (матрицы энергия-энергия-время) с получением двумерных спектров для определенных энергетических «окон», которые в физике высоких энергий называются “cuts”. Затем я обрабатывал полученные спектры чешской программой spdemos авторства Ярослава Франы из Ржеж под Прагой (потом, уже работая в ОИЯИ, я ездил к Фране на практику в Ржеж). Я получал таблицы энергий гамма-переходов, находившихся в совпадениях с данным «окном». Теоретические знания о спектроскопии я в основном черпал из литературы, в первую очередь из превосходной книги харьковских авторов Гопыча и Залюбовского «Ядерная спектроскопия», которую принес мне Владимир Ильич. Стегайлов тогда хорошо общался со мной и рассказывал много интересного о жизни в Дубне, хотя не очень много учил меня чему-либо из физики. Как позже выяснилось, он занимался в основном методикой, детекторами, проведением эксперимента – это была его область экспертизы. Также на Стегайлове лежала забота о своевременной заливке детекторов, требовавших низкой температуры, азотом и заполнение азотного танка – стоявшей на улице большой бочке с азотом, откуда он распределялся по дьюарам, из которых заливались детекторы. Иначе говоря, он вел все хозяйство группы. При этом обработка спектров, интерпретация и написание статей в группе была за Индрой Адамом и в меньшей степени – Калинниковым, иногда ранее в ней участвовали приезжавшие в командировки чешские физики Драгош Венос и Милан Гонусек.
В консультировании же моего диплома, помимо Стегайлова, участвовал и Калинников, он давал мне книгу Вайскопфа и Мошковского с теорией для вычисления теоретических интенсивностей гамма-переходов и сравнения с экспериментом. Это была старая модель, да и книга примерно 60-х годов, но для знакомства с основами структуры ядра была то, что нужно. Основной проблемой было получить из совпадений схему распада, она была сложная, но некоторые низколежащие переходы мы в схеме все-таки как-то расставили, даже, помню, нашелся один переход с мультипольностью M2 (это была самая высокая мультипольность, что мы видели в этом ядре). Я тогда начинал понимать, чем это интересно: высокая мультипольность вследствие запрета на переход по квантовым числам косвенно указывалa, что уровень, с которого шел переход, мог быть довольно долгоживущим изомером, а возможно, и деформированным состоянием ядра. То есть разные состояния одного и того же ядра могли иметь разную деформацию и форму! Полученные в работе предварительные результаты, кажется, не были опубликовано нигде, кроме как в моей дипломной работе. Я ее защитил на “отлично”. Я тогда еще не осознавал, что классическая прецизионная ядерная спектроскопия и структура атомного ядра, к которой я приобщился, были «уходящей натурой» и по большому счету в мире не имели большого будущего. Ядерная изомерия и изотопы, удаленные от линии стабильности, стремительно теряли свое значение и поддержку как фундаментальные области, по мере того как редукционистская физика высоких энергий выходила на первый план. Осознание этого пришло уже потом, но самое главное тогда было, что меня брали на работу в эту группу, в ОИЯИ.
Свою дипломную работу я, наверное, первым в ОИЯИ (или одним из первых, скажем скромно) оформил полностью на LaTeX, который вскоре стремительно стал стандартом для научных публикаций. Принес его на ЯСНАПП, кажется, Гюнтер Крайпе, и я сразу стал его осваивать, начав с диплома. Чтобы распечатать диплом, я еще в Питере, в Доме книги на канале Грибоедова, где был завсегдатаем в годы учебы, купил роскошную толстую финскую мелованную бумагу с голубоватым отливом. Текст, формулы – все выглядело на ней настолько красивым, что, когда я показал диплом Калинникову и объяснил, какими средствами его создал, тот вскоре распорядился найти учебник по TeX (за авторством Д. Кнута) даже для своего секретаря отдела. По совпадению, именно в то время в ЛЯПе объявили конкурс на лучшую дипломную работу. Мне тогда показалось, что мой сделанный с такой любовью диплом должен обязательно занять какое-то место. Вместе со Стегайловым мы понесли его подавать на конкурс ученому секретарю ЛЯП. Тот его принял, как мне тогда показалось, с некоторым сомнением, но конкурс по какой-то причине отменили: то ли не набрали достаточного количества кандидатов, то ли по еще почему. Однако коллеги и вуз мой диплом оценили высоко, и я был вполне удовлетворен.
Несколько иначе и сложнее складывалась ситуация у Андрея Приемышева. Он пошел на диплом в другую группу, работавшую на соседнем ионопроводе. Там стоял огромный прибор, метров 8 в диаметре и метра 3 высотой. Это был альфа-спектрометр, который называли «самым большим альфа-спектрометром в Европе», а руководил им Вадим Григорьевич Чумин, немолодой уже ученый, возраста, близкого к пенсионному. Как позже он говорил сам, родом он был из Череповца, как и я, но я себя тогда уже больше связывал с Питером, чем с Череповцом. Чумин поначалу хорошо относился к Андрею, рассказывал о физике, которую делал на спектрометре, давал читать книгу о дифференциальных уравнениях с упражнениями. Но в конце произошло нечто непредвиденное. Альфа-спектрометр создавал вокруг сильнейшее магнитное поле, поэтому при его включении все мониторы искажались и появлялись шумы и наводки в электронике у всех групп, даже у нас, на втором этаже. Поэтому наладку своего прибора Чумин проводил глухой ночью, когда с ЯСНАППa все уходили. И вот однажды он вызвал Андрея ночью помогать ему готовить альфа-спектрометр к экспериментам. Вадим Григорьевич дал Андрею гаечный ключ, чтобы тот подавал его, когда потребуется, и залез глубоко под прибор. Чумин возился под прибором довольно долго, было далеко за полночь, и у Андрея слипались глаза. Видя, что Чумин не обращает на него внимание, Андрей отошел от прибора к комнате сепараторщиков, рядом с которой стоял диван для дежурных, прилег на него и вскоре заснул.
Когда Чумин начал звать Андрея и требовать подать ключ, тот уже не слышал. Чумин, немолодой человек, которому пришлось долго и с трудом вылезать из-под альфа-спектрометра, чтобы взять ключ самому, увидел спящего на диване Андрея и был крайне рассержен. Он пошел наутро к Калинникову и сказал, что Андрей плохой и ленивый работник, ученого из него не получится, и он не будет его брать на работу. Как я понял эту ситуацию, Андрей, конечно, хотел спать, он был спокойный, дисциплинированный парень, любивший все делать по расписанию, но это было только полбеды. Как это часто бывало в научных группах постсоциалистической традиции, никто не брал на себя труд объяснить молодому человеку, что и зачем конкретно они в данный момент делают. Тут, мол, тебе работа, а не институт, включайся и по ходу дела разбирайся, главное пошевеливайся! Замечательная польско-французская социолог Изабела Вагнер, с которой я познакомился уже много позже, назвала эту научную культуру, характерную для многих постсоциалистических стран, “sink or swim”, или «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Хочешь научиться – учись сам, иначе, как в том анекдоте про сантехников, будешь всю жизнь ключи подавать. Однако, как показали этнографические исследования, которые мы с философом Полиной Петрухиной провели в ОИЯИ лет 25 спустя после описываемых событий, ситуация в польских, например, группах изменилась кардинально. Там к каждому студенту стали прикреплять ментора, который его или ее именно учил и вводил в курс научной тематики, подробно отвечая на все вопросы, а не просто использовал в качестве бесплатного техника. Европейцы сделали работу над ошибками, причем прикрепляли обычно своих же менторов, людей близкой научной культуры. В российских же группах, по крайней мере экспериментальных, мне представляется, ситуация осталась в целом на прежнем уровне, учиться приходится только самому. А ведь объясни Чумин Андрею, как интересно и важно сделать эту процедуру для спектрометра, как улучшатся результаты, как это воспримут на конференциях, да еще дай ему самому покрутить гайки, а не только стоять с ключом, и увидеть результат своей работы – вряд ли Андрей захотел бы спать. Хороший учитель должен зажечь и увлечь.



