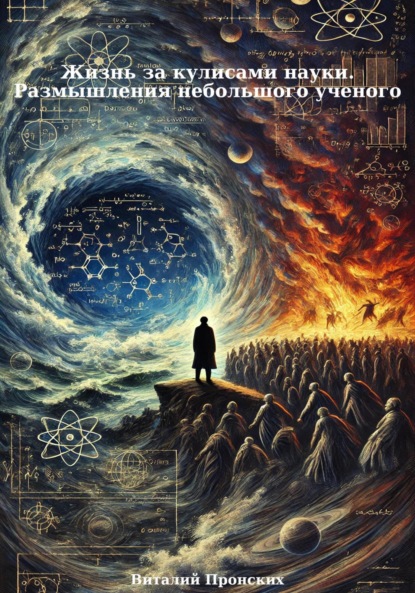
Полная версия:
Жизнь за кулисами науки. Размышления небольшого ученого
От ребят я, конечно, знал, что при МФТИ существует заочная школа – ЗФТШ, в которой многие занимались. Как туда поступить? Надо писать куда-то письмо или ехать? Интернета тогда не было, и информация передавалась из уст в уста. Один из одноклассников, Игорь Макаров, занимался в ЗФТШ и иногда рассказывал, какие там задачи по физике. Помню, как однажды он с серьезным видом предложил мне задачу о спутнике, летевшем над некоторой планетой, для которой был известен только радиус и нужно было что-то узнать о его скорости относительно наблюдателя на этой планете, деталей не помню. Игорь небрежно рассказал, как задача решается в пару действий, и меня впечатлили две вещи. Во-первых, задача была о планетах, спутниках, космонавтах (или даже инопланетянах!) – очень нетривиальных объектах для нас тогда, но при этом решалась неожиданно тривиально. Так мыслить должны физики, находя простые модели для сложных систем, отбрасывая лишнее, абстрагируясь и идеализируя. В средней школе этому не учили. Не учили этому и на курсах при Техноложке. Во-вторых, я не мог понять, как это мой одноклассник, такой же череповецкий парень, хотя и тоже олимпиадник, но не занимавший самых высоких мест, мог дойти до всего этого! Не иначе, думал я, он просто значительно умнее меня по природе. Физтех казался непреодолимым барьером, я даже не ставил перед собой таких планов, считая, что, значит, и Искандер, и Игорь – просто люди с другими мозгами.
Лишь много лет спустя, когда я настроил уже собственного сына в 7-м классе поступить в ЗФТШ и помогал ему разбираться с задачами (решая в охотку с ним до его 10 класса), я понял, что если и не «ларчик просто открывался», то способы для школьника научиться решению таких задач и модельному мышлению были! С одной стороны, существовали (надеюсь, и существуют до сих пор) совершенно гениальные методички, где четко и связно рассказывается и показывается на примерах, как решать физтеховские задачи. «Заботав» методичку ЗФТШ, неглупый ученик мог и сам решить большую часть заданий. С другой стороны, сложные моменты оставались, но к каждому ученику прикреплялся куратор, как правило студент-энтузиаст младших курсов МФТИ, сам недавно закончивший эту заочную школу, который как в переписке, так и в ходе выездных сессий и олимпиад мог растолковать школьнику непонятные места. То есть всему этому можно было научиться, было понятно, как и у кого, главное, пораньше начать готовиться! И если в более широком смысле ретроспективно невозможно судить, как изменилась бы жизнь, если бы человек шел другими путями, то про ЗФТШ я абсолютно уверен: для любого человека, который закончит ее в школьном возрасте, плюсов однозначно будет больше, чем минусов, каким путем дальше ни пойди.
Уже впоследствии, живя в Дубне и работая научным сотрудником, я не только приобщал сына к ЗФТШ, но и отправлял и сына, и дочь (более тяготевшую к биологии), иногда даже вопреки их желанию, на городской физико-математический факультатив. Родители не должны заставлять детей идти по своему пути, путь у каждого свой, но делал я это не для того, чтобы воспитать детей физиками (хотя в душе немного и желал им этого). Физика и математика развивают способность моделировать, находить простое в сложном, логически и критически мыслить, что нужно любому человеку, какой бы профессии он впоследствии себя ни посвятил. На этом нельзя замыкаться, становиться технарем и физикалистом, одно это лишает человека красок жизни, сужает горизонты, ведь и искусство – способ познания мира. А без культуры точных наук критического мышления не развить, человек будет однобок. Разумеется, то, к чему лежит сердце, человек найдет и сам, главное, не мешать, но отсутствие баланса обеднит человека.
При этом нет задачи сложнее и неблагодарнее, чем учить своего ребенка. Своему чаду никто не учитель. Ребенок психологически не может воспринимать родителя как педагога, с этим связано множество конфликтов. Я вспоминаю, как сердилась мама, когда я в школьной стереометрии не мог понять, каков вид у некой трехмерной фигуры сбоку. Она даже вырезала эту фигуру из ластика, чтобы показать мне ее в изометрии, но я все равно не мог представить другую проекцию. Даже в младших классах, видя, что мама сердится, я не мог без ошибок написать «дает корова молоко», и, опасаясь перспективы постоять в углу, исписывал целую страницу, но каждый раз выходило то «корора», то «мололо», то еще что-то. Не любящий и оттого пристрастный родитель, а хороший учитель-энтузиаст своего предмета может зажечь ученика и увлечь профессией. В моей череповецкой школе было достаточно хороших, традиционных учителей, физичка была даже заслуженным учителем РФ, но не было именно преподавателей уровня олимпиад и ЗФТШ. Вокруг меня были и олимпиадники, как и я сам, но они готовились самостоятельно или на стороне, не в школе. Школе они лишь приносили победы. А без сообщества и педагога даже способный ученик вынужден вариться в собственном соку ограниченного понимания предмета. Знание коммуникативно. А поскольку в Дубне был межшкольный факультатив, который вел известный преподаватель А.А. Леонович, готовивший и олимпиадников, кружковцев ЗФТШ, и поступающих, то я с радостью отправлял туда своих детей, чтобы компенсировать им то, чего мне не хватало в школьные годы самому. Хотя никто из них не стал ни физиком, ни математиком, но навыки критического мышления, несомненно, пригодились им обоим в жизни. По крайней мере, мне так представляется.
Итак, возвращаюсь к весне 1985 года. В конце 10 класса, на каникулах, я с отцом поехал в Ленинград на дни открытых дверей вузов. То, что нужно учиться в Ленинграде, мне казалось очевидным: я был там много раз, и мне нравился дух и европейская красота этого города, более того, там жил старший брат, а он, как и отец, ранее учился тоже в Питере, в Политехе. Училась в Ленинграде и мама, там они встретились и поженились с отцом. Москва тогда мне не нравилась совсем. Несмотря на уговоры, в Политех я не хотел. Поэтому посещение дней открытых дверей мы начали с Техноложки, курсы при которой я тогда почти закончил. Меня поразил даже ее внешний вид – величавое здание со шпилем на Загородном проспекте, вблизи узловой станции метро «Технологический институт». «Вот это – действительно Институт так Институт», – думал я, сравнивая только с череповецким филиалом СЗПИ, где работал отец, похожем, скорее, на обычную школу. Я не помню, что рассказывали в Техноложке на официальной части, но помню, что меня поразили высоченные двери и потолки, широкие лестницы, как во дворце. Однако манил меня лишь поход на кафедру радиационного материаловедения, где нам обещали опыты с заветной радиацией. Самым запоминающимся для меня оказался опыт, когда бесцветные кристаллы помещали в гамма-излучатель, после чего они приобретали различную окраску. Это было похоже на химические опыты, на которых я к тому времени уже «съел собаку», но только они были физические и с частицами. «А чтобы понять, как это происходит, нужно, конечно, узнать и диаграммы Фейнмана, нельзя же ученым делать опыты, не понимая всех процессов теоретически», – думал я. А еще на кафедре был нейтронный генератор! И уж когда заведующий сказал нам, что некоторые студенты проходят практику в Дубне, с которой у кафедры есть связи, а лучшие из них даже попадают туда на работу, я понял, что выбор, куда поступать, предрешен. Дополнительная информация о том, что основателем кафедры был К.А. Петржак, который вместе с Г.Н. Флеровым (“Это же автор книги о сверхтяжелых», – вспомнил я) открыл спонтанное деление урана, воспринималась уже лишь как нечто самоочевидное. Да уж, тут не иначе как все академики и нобелевские лауреаты на каждом шагу! Больше я не пошел на дни открытых дверей в другие вузы и все каникулы наслаждался прогулками по Питеру, мечтая, что скоро приеду сюда учиться. Все теперь казалось ясным. По крайней мере, главное – учиться так, чтобы потом попасть в Дубну, а там разберемся.
Был и еще один источник моего влечения к физико-химическому профилю в школьные годы – влияние родителей. Отец был ученым-металлургом, заведовал кафедрой металлургии в череповецком филиале СЗПИ, занимал должность профессора (будучи кандидатом наук). Также он был председателем череповецкого филиала общества «Знание», в ту пору очень популярного, и активным лектором этого общества. У отца всегда дома были диафильмы на актуальные научно-популярные темы и диапроектор (все то, что для моего поколения впоследствии заменили слайды). Мне он тоже многое рассказывал, хотя, как свойственно в том возрасте, я слушал отца вполуха, считая, что я и сам все понимаю и разберусь. Но в памяти почему-то отложилось, что, рассказывая о современных исследованиях, отец подчеркивал, что все будущие открытия будут происходить на стыке дисциплин, как теперь, наверное, сказали бы, в междисциплинарных областях. Отец упоминал физику и химию, материаловедение, которыми сам занимался, а также химию и биологию. Биология меня вовсе не привлекала, поскольку представлялась конгломератом неких систематик, классификаций, набором эмпирических фактов, где сложно было проследить внутреннюю логику. Коллекционирование бабочек, одним словом. Ее надо зубрить, чего я, несмотря на хорошую память, совершенно не хотел. Физика и химия казались мне ближе и интереснее, логичнее и глубже. Вот на их стыке, думал я, и буду делать открытия.
Несмотря на то что отец был успешным прикладным ученым, он не был знаком с некоторой спецификой институтов так называемой «фундаментальной» науки. Не все его советы соответствовали тому, что я увидел, придя позже в Дубну. Что Политех, который закончили отец и брат, что Техноложка, с которой я начал свой путь в ОИЯИ, готовили инженеров: инженер-металлург, инженер-физик, инженер-химик. Инженер было расхожим словом в Союзе. Даже мама, работавшая старшим экономистом на Череповецком металлургическом комбинате и закончившая Ленинградский финансово-экономический институт, имела диплом «инженера-экономиста». Хотя какой из экономиста инженер! Слово «инженер» применялось ко всему и было столь избитым, что уже не означало в общем-то ничего. Отец рассказывал, что, начав с инженерной должности, мастером участка на металлургическом комбинате в Красноярске, он поступил затем в аспирантуру в Ленинграде, стал кандидатом наук, распределился в Череповец и начал работать в вузе, занимаясь уже наукой и преподаванием. Поэтому и мне стоит поступать на инженерную специальность в избранной области (это и есть правильный вход в науку), получить опыт работы, а уж потом начинать заниматься наукой. Какая ж наука без опыта работы по специальности!
Нужно ли говорить, что в ОИЯИ, куда я пришел на работу, понятия были совсем другие. Они, по крайней мере на уровне устной традиции, вкратце были таковы. Здесь ценилась «фундаментальность» в образовательном плане, а фундаментальное, «чистое» образование можно получить только в государственных университетах, причем немногих и только первого ряда. Инженерное образование считалось второсортным, недостаточным для серьезной научной деятельности, а люди с инженерными дипломами если и достигали иногда высоких научных результатов, то, скорее, вопреки этому, я не благодаря. То есть такие люди, конечно, были и есть, и вам их всегда с удовольствием покажут, но именно в культуре сообщества «фундаментальных» физиков они воспринимаются ниже «чистых» по образованию ученых. Действительно, при объективном сравнении, которое мне довелось сделать и самому, оказывалось, что в государственных (классических) университетах читается больше теоретических курсов, и они преподаются глубже, фундаментальнее, чем в институтах (которые после перестройки тоже переименовали в университеты, но тем не менее). Назвать же человека «инженером» в сообществе фундаментальной науки означало упрекнуть в неполной компетентности, мол, он «не физик», либо «недофизик». С другой стороны, химик тоже не считался достаточно фундаментальным ученым, поскольку он тоже «не физик». Специальность «инженер-физик», например, многие ученые с «классической» подготовкой называли шутя «инженер минус физик».
Со стороны это выглядит забавно, но отражает некоторую иерархию наук, которая довольно укоренена в научном сообществе, в том числе мировом, как я увидел позднее, к чему вернусь в следующих главах. Это еще в 1980-х было замечательно проиллюстрировано западной социологией науки, например в книге Шарон Трэвик «Время жизни и время на пучке», у которой пока нет русскоязычного перевода. Например, презрение к инженерам выражалось не только в их более низком, чем у физиков, положении в научной «табели о рангах» и, соответственно, более приземленных карьерных перспективах. Забегая немного вперед, вспоминаю, что один иностранный специалист с инженерным образованием, приехавший в Дубну из Центральной Европы, где инженер – хорошо зарабатывающий специалист, к тому же уважаемый в обществе (приставка Ing перед именем там используется даже в быту для обозначения статуса человека, который выше, чем обыватель), был поражен, когда у него протек унитаз в служебной квартире, а вызванные сотрудники ОЖОС ОИЯИ (Отдела жилищного обеспечения специалистов, позже переименованного в Гостинично-ресторанный комплекс), сказали ему, что вызвали инженера, который скоро придет и разберется. Иностранец, недавно приехавший в Дубну, не мог поверить, что инженер будет заниматься протечкой унитаза! Тут-то он и понял, что ему незачем здесь гордиться своим званием. Побывай я в такой среде общения в школьные годы, я бы наверняка выбрал другие ориентиры, хотя неясно, создали бы они для меня другие возможности или нет. Говоря книжным языком, и в науке, и в культуре в целом есть откровенное и прикровенное. Есть понятия писаные и неписаные, и неписаные можно узнать только из чьих-то уст, в сообществе.
Итак, летом 1985 года я успешно поступил в Техноложку, и вот уже после срочной службы в армии и учебы, по окончании четвертого курса, в 1992 году, еду с одногруппником в первый раз в Дубну на летнюю практику. Приехав ночным поездом из Питера в Москву, ранним утром мы добрались до Савеловского вокзала, сели на зеленую электричку, которая шла до Дубны три часа, и, чтобы не скучать в дороге, взяли с собой на вокзале пива «Клинского» и какую-то еду. Ходил и быстрый двухчасовой синий экспресс, но, не зная расписания, мы на него опоздали, ходил он редко. Первый час за окном мелькали обжитые и благоустроенные московские и подмосковные пейзажи. Но потом виды стали скучнее: буреломы, поваленныe телеграфныe столбы. Москва закончилась, началась остальная Россия. Я не помню, кто нас встречал в Дубне и как мы добрались до Института. Видимо, все было штатно. Дубна оказалась небольшим уютным городком, построенным вокруг ОИЯИ. Поселили нас в общежитии МГУ на Ленинградской. На площадке ЛЯП нас встречал Александр Федорович Новгородов, он оказался начальником сектора радиохимиков. Он же познакомил нас с коллегой, Юрием Вячеславовичем Юшкевичем, руководителем сектора масс-сепаратора, и они вместе отвели нас на ЯСНАПП, корпус-пристройку к корпусу ускорителя Фазотрон. ЯСНАПП расшифровывалось как Ядерная спектроскопия на пучке протонов. В этот корпус выводились пучки ионов, которые получались, когда масс-сепаратор разделял нуклиды, образующиеся в расщеплении танталовой или вольфрамовой мишени, устанавливавшейся на пучок протонов Фазотрона.
На ионопроводах внутри ЯСНАПП стояли установки для изучения структуры ядер удаленных от линии стабильности – продуктов расщепления мишени, протоноизбыточных ядер. Там было четыре ионопровода, на одном из которых располагалась установка Многодетекторные угловые корреляции (МУК), о коллективе которой я подробнее буду рассказывать ниже. На втором размещалась установка СПИН для исследований спиновых состояний ориентированных ядер при температурах, близких к абсолютному нулю. При мне она не работала на пучке, в режиме онлайн, но с ее группой мне позже удалось поучаствовать в эксперименте в ознакомительных целях. Ей руководил чешский физик Мирослав Фингер, и его группа была полностью чешской, что придавало ей особую когерентность и мобильность. Что было на третьем выводе, я не могу уже вспомнить, потому что там при мне не работали. А на четвертом располагался большой альфа-спектрометр, на котором довелось практиковаться одному из моих однокурсников, о чем подробно будет чуть ниже.
Новгородов (которого коллеги за глаза с симпатией называли Федорыч) и Юшкевич вели нас от РХЛ до ЯСНАПП не по асфальтированной дороге, а по насыпи, которую неформально называли «тропой Хо Ши Мина», ей пользовались только свои. ЯСНАПП был сравнительно новой кирпичной пристройкой к Фазотрону, построенной вроде бы в 1970-е или 1980-e, но сопровождающие провели нас и дальше и показали и сам Фазотрон, большой бетонный корпус. Фазотрон, как оказалось, был построен еще при Сталине, в 1947 году, и наши спутники рассказали нам несколько невеселых исторических анекдотов, связанных с ускорителем, я запомнил два из них. Первый был такой. До международного ОИЯИ в сталинские годы на месте ЛЯП была военная ядерная лаборатория, называвшаяся для конспирации Гидротехнической Лабораторией. На приемку ускорителя, который надеялись использовать в военных целях, приехала группа генералов, и один из них, осмотрев здание, поинтересовался: «А где здесь окно выдачи?» «Какое?» – опешили конструкторы. «Ну, через которое оттуда будут бомбы выезжать?» В этом анекдоте (который, возможно, отражает некие реальные события) есть смысл, и не только показывающий научную компетенцию спрашивающего приемщика. Ученые – люди изобретательные и могут облечь свои научные и познавательные интересы в красивую оболочку, чтобы в некотором смысле пустить пыль в глаза чиновникам, которым трудно «продать» абстрактные теории, но легко заинтересовать аргументами государственного и оборонного значения. Можно ведь, например, сказать, что изучаемые нами кварки удерживаются в протоне силой, превосходящей вес целой дивизии баллистических ракет! Вроде все корректно, если сравнивать именно силы, но как звучит, как звучит… В отличие от популяризаторов науки, которые нередко приукрашивают значимость исследований из журналистских соображений «красивого словца» и недостаточной научной грамотности, у ученых мотивация более прагматичная: они хотят получить финансирование своих исследований и заслужить общественное признание. К вопросу, всякая ли популяризация удовлетворяет нормам этики, мы будем возвращаться в следующих главах. В тот момент мы с Андреем Грауле лишь посмеялись.
Вторая байка наших спутников была такой. Ускоритель, как и большинство великих строек сталинской эпохи, «построенных на костях», возводили заключенные из лагерей, с которых, собственно, и началась научная Дубна. Они и заливали бетон в стены Фазотрона. И по преданию, в одной из стен замурован нормировщик стройки, которого зеки сбросили в бетон за то, что он плохо закрывал наряды. Старшие товарищи говорили об этом многозначительно, явно проводя какие-то параллели с современностью, непонятные пока нам с Андреем, но понятные им. Одно казалось очевидным в их подтексте: надо считаться с другими людьми и их интересами, даже если они подневольные и зависимые. «Неужели в науке есть проблемы с уважением людей друг к другу?» – промелькнула было в голове мысль, но надолго не задержалась. Я смотрел на стены ускорителя, как на страшный памятник эпохи, который отзывался у меня еще двумя ассоциациями. Они мне напомнили, что мой дед был репрессирован в 1937 году и погиб в лагерях, на Колыме. Мне представилось, что и он мог строить какие-нибудь подобные мрачные сооружения советской индустриализации. В 1986-1988 годах я отслужил срочную службу в стройбате в Баку и сам работал на стройках. Стройбат – некоторое подобие лагеря общего режима, и там нередко происходили различные события и разборки, когда стройбатчики калечили и убивали друг друга, поэтому история про Фазотрон не показалась мне нереалистичной. Потом, заходя в корпус Фазотрона, я часто смотрел на его стены и думал: занимаясь наукой, memento mori.
В тот приезд нам не удалось пообщаться с экспериментаторами установок на ионопроводах на ЯСНАППе. Но так как нас интересовала физика, темой нашей практики сделали изучение схем распада калибровочных изотопов. Нас отвели в комнату в экспериментальном зале ЯСНАПП, где сидели сепараторщики, сотрудники Юшкевича. Мне и Андрею предоставили компьютер, IBM-совместимый «Правец» болгарского производства, на котором мы писали отчеты о том, как мы изучали схему распада, по-моему кобальта-60, и рисовали на компьютере его спектр, осваивая этот компьютер. Как образец спектра, нам дали «атлас Вылова» – справочник образцовых спектров нестабильных ядер, созданный в секторе Цветана Димитровича Вылова и под его редакцией. Мне как-то тогда понравился сам процесс этого несложного вроде бы ознакомительного исследования, обработка данных на компьютере. Был разгар лета, и я выходил погреться из всегда холодного корпуса пристройки и вдыхал по-особому, по-подмосковному ароматный и медвяный, даже пьянящий, воздух буйной зелени вокруг корпуса. Воздух по запаху отличался от насыщенного промышленными выбросами воздуха Череповца или северного воздуха Питера, он мне нравился много больше. Мне не хотелось уходить в общежитие, и я с удовольствием подолгу оставался на ЯСНАППе и в другой нашей локации – РХЛ, Научно-экспериментальном отделе ядерной спектроскопии и радиохимии (НЭОЯСиРХ).
Представил нас Новгородов и начальнику Отдела, или, как его исторически называли, РХЛ, В.Г. Калинникову, который произвел прекрасное первое впечатление, шутил, говорил о науке, приглашал приезжать еще. Рассказывал, что стажировался в Дании, в Институте Нильса Бора, и мы прониклись уважением к этому ученому. Невысокий, лысоватый и глядящий исподлобья, он был профессором и выглядел именно как профессор. Выдали нам и талоны на питание, что стало нам, студентам, большим подспорьем. Но самым восхитительным местом была в РХЛ комнатка, предназначенная для германиевого детектора, в том крыле РХЛ, где находился сектор Новгородова, и принадлежавшая ему же. Там стоял такой же IBM совместимый компьютер «Правец» болгарского производства, как и на ЯСНАППе. Нам рассказали, что в ОИЯИ много таких компьютеров, так как их помог закупить в Болгарии автор атласа изотопов, Ц.Д. Вылов, ученый и руководитель сектора из Болгарии. Компьютер-то был как на ЯСНАППе, но было одно «но»! У Александра Федоровича на его «Правце» была установлена увлекательная игра Digger, которой мы раньше не видели. Вообще, шел 1992 год, компьютеров было мало, как и компьютерных игр. В «Диггере» с помощью клавиатуры нужно управлять неким существом, которое роет землю и проглатывает мешки с золотом, набирая баллы, пока за ним гонятся существа-охотники, которых надо перебить этими же мешками с золотом, чтобы они не съели Диггера, и перейти на следующий уровень. Уровней было много.
Игру сопровождала мелодия «Попкорн», популярная в начале 80-х, в народе на нее еще напевали шуточные стихи «мама сшила мне штаны из березовой коры». Каждый уровень был сложнее предыдущего, и мы с замиранием сердца смотрели, как Федорыч, не выпуская изо рта сигареты, гонял Диггера, выписывая умопомрачительные фортели и пируэты на экране и проходя все уровни на одном дыхании, управляя при этом лишь двумя пальцами. Казалось, он проводил за “Диггером” каждый перекур и, если бы за игру присуждались спортивные разряды, он, несомненно, стал бы гроссмейстером международного класса. А вот по вечерам в “Диггера” поиграть уже разрешалось нам: у нас был ключ от комнаты. Мы постепенно осваивали игру, где-то экспериментируя, где-то наблюдая за Новгородовым, и мне кажется, что уже после второй практики, к началу дипломной работы, которую я тоже потом писал в РХЛ, я уже свободно проходил все уровни, хотя и не с таким блеском и скоростью, как Новгородов. Но это увлечение Федорыча вызывало во мне лишь уважение, ведь человек талантливый – талантлив во всем, и будучи виртуозом игры в Digger, он наверняка не меньший виртуоз и в радиохимии.
Пару раз за практику Новгородов приглашал нас с Андреем немного выпить у него в кабинете. Говорили он с нами, конечно, о науке, о Чернобыле, где был ликвидатором, о его коллегах, о том, что наш декан Штанько, оказывается, член семьи видного советского руководителя промышленности. Он много курил, и дым стоял, что называется, коромыслом. Угощал нас кофе «по-польски», который его научили заваривать польские коллеги: молотый кофе заливается кипятком в чашке, накрывается на несколько минут фольгой, а потом размешивается. От него я получил и первое впечатление о непростой жизни в науке. Задавая вопросы о работе в ОИЯИ, возможностях, перспективах, мы с удивлением узнавали, что все непросто, плохо с жильем, которое, если я правильно помню, Александр Федорович получил только после Чернобыля, есть немало интриг и конфликтов среди коллег. В целом, несмотря на, как мне тогда казалось, отличную карьеру в ОИЯИ – начальник сектора, кандидат наук, Александр Федорович казался не вполне удовлетворенным жизнью. К его чести, он не пытался вмешивать нас в свои отношения с коллегами, говоря, мол, «у нас – своя драка, у вас – своя».



