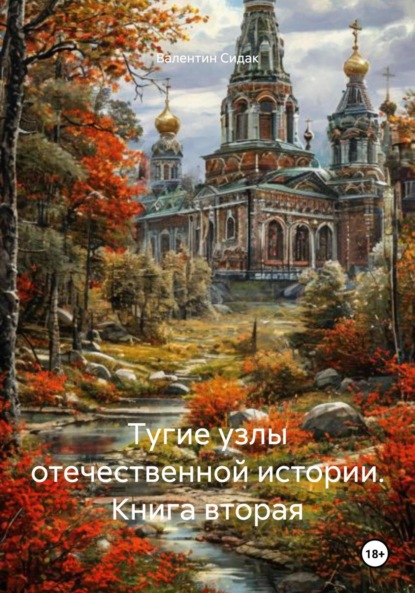
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Книга вторая
Для этой цели к царю были направлены я и Гучков Александр Иванович. Царский поезд в это время находился на ст. Псков, где мы и застали царя. Последний немедленно нас принял. Гучков в своей речи изложил цели нашего приезда и передал царю подготовленный нами текст отречения. В принципе против отречения от престола Николай II не возражал, однако, с нашим проектом не согласился и заявил, что престол передает своему брату Михаилу Александровичу. К такому решению царя я и Гучков не были подготовлены и обратились к нему с просьбой дать нам некоторое время для обсуждения этого вопроса. Царь разрешил. После краткого совещания мы сообщили Николаю II о согласии с его проектом отречения от престола. При вручении нам текста отречения от престола Николай II по моей просьбе назначил председателем совета министров князя Львова и Верховным главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича.
Вскоре же стало очевидным, что наша попытка спасти русскую монархию путем передачи престола другому лицу не удалась. Великий князь Михаил Александрович престола не принял, но поставил условие, чтобы Всероссийское Учредительное Собрание высказало свою точку зрения по вопросу о форме правления Россией. Такое решение Великого князя было вызвано объективной обстановкой, создавшейся к этому моменту в стране, так как в столице при полном разложении гарнизона начали группироваться те силы, которые впоследствии повели революцию по определенному пути. Если бы Великий князь даже и пожелал принять престол, то в силу сложившихся условий он этого сделать не смог бы, так как Россия была уже охвачена революцией.
3 ноября 1917 г. я из Киева выехал на Дон, в г. Новочеркасск.
Вопрос: В связи с чем?
Ответ: В Новочеркасск я выехал в связи с тем, что имел в виду встретиться с генералом Алексеевым. О последнем к этому времени я имел сведения, что он избрал Дон местом для формирования Добровольческой армии…
Вопрос: Стало быть, ваш приезд на Дон имел целью участия в организации Добровольческой армии?
Ответ: Да…
Вопрос: Каким органом вы были арестованы?
Ответ: Я затрудняюсь сказать каким, но, несомненно, что этот арест был произведен представителями Красной Армии. В это время комиссарами Красной Армии производилось большое число арестов, главным образом бывших офицеров царской армии. После ареста я был доставлен в здание царского дворца.
Вопрос: И там подверглись допросу?
Ответ: Нет. Когда меня ввели в одну из комнат этого дворца, то там я был встречен, как впоследствии выяснилось, комиссаром Ремневым. Прием, оказанный мне последним, носил довольно странный характер. Когда ему была сообщена моя фамилия, то оказалось, что я был ему известен как редактор газеты "Киевлянин". Ремнев очень любезно обратился ко мне с предложением выпить чаю, а затем, когда я отказался, заявил, что мне будет предоставлена отдельная комната. Такое отношение на меня произвело странное впечатление, потому что вокруг дворца я видел трупы расстрелянных и как ярый враг большевиков, каким я несомненно был известен арестовавшим меня, я подготовился к самому худшему, однако этого не произошло.
Вопрос: Как же поступили с вами в дальнейшем?
Ответ: Через две недели я был освобожден.
Вопрос: Каким образом?
Ответ: Освобожден я был при совершенно неясных для меня обстоятельствах.
Вопрос: Покажите об этом подробнее?
Ответ: У меня создалось впечатление, что к моему освобождению имел отношение Пятаков.
Вопрос: Какой Пятаков?
Ответ: Это тот Пятаков, который впоследствии был в советском правительстве, а затем разоблачен как враг советской власти, и осужден к расстрелу.
Вопрос: Почему у вас создалось впечатление, что Пятаков мог оказать влияние на ваше освобождение?
Ответ: Этому предшествовал целый ряд обстоятельств.
Вопрос: А конкретнее?
Ответ: Когда я находился под стражей в названном выше дворце, то комнату, где я содержался, посетили два лица. Это были бывшие члены Киевской Городской Думы из большевистской фракции Гинзбург и молодая учительница, фамилию которой я вспомнить не могу. Во фракции большевиков тогда же находился и упомянутый выше Пятаков. Эти три лица мне хорошо были известны по думской деятельности. Разыскав меня среди семисот человек арестованных, находившихся в одной со мной комнате, Гинзбург и учительница заявили мне буквально следующее: "Мы предпримем все усилия к тому, чтобы вас освободить" и предупредили, что, когда будут раздавать передачи от родственников, то фамилия моя называться не будет. Через две недели я был вызван председателем Революционного Трибунала Ахманицким, который и освободил меня из-под стражи…».
«Вопрос: Какую враждебную работу против Советской власти вы проводили в Одессе?
Ответ: Я участвовал там в формировании добровольческих отрядов и принимал меры к тому, чтобы подготовить смену командования Добровольческой армии, так как уже тогда я предвидел, что Деникин, потеряв в войсках авторитет, в связи с отступлением к Черному морю, рано или поздно уйдет в отставку.
Вопрос: Что вы делали в этом направлении?
Ответ: В конце января 1920 года по моей инициативе в квартире члена особого совещания Степанова было созвано специальное совещание, на котором было принято решение на пост Главнокомандующего вместо генерала Деникина подготовить генерала Врангеля, авторитет которого среди Добровольческой армии, даже в то время был весьма значительным.
Вопрос: Кто принимал участие в этом совещании?
Ответ: В совещании участвовали: Степанов Василий Александрович, генерал Драгомиров и я.
Вопрос: Каким образом вы намечали осуществить смену командования Добровольческой армии?
Ответ: Между нами состоялось устное соглашение, которым было предусмотрено, что рано или поздно назреет вопрос об отставке Деникина, и мы наметили, что в этот момент мы предложим ему вместо себя назначить генерала Врангеля…
Вопрос: А ваша контрреволюционная организация функционировать продолжала?
Ответ: Нет.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому что в Одессе на наши следы напали органы Чрезвычайной Комиссии и "Азбука" вынуждена была бездействовать. Руководитель Одесского отделения, мой племянник Могилевский, был арестован. Арест угрожал также и мне. Это обстоятельство вынудило меня из Одессы бежать, а затем, когда я уже был в Севастополе, то в силу сложившихся обстоятельств, официально объявил членом своей контрреволюционной организации полковнику Самохвалову и другим, что впредь "Азбука" функционировать не будет. Этим и завершилась деятельность созданной мной контрреволюционной организации "Азбука".
«Вопрос: Как долго вы пробыли в Советской России?
Ответ: С 23 декабря 1925 года по 6 февраля 1926 г., т.е. полтора месяца.
Вопрос: Какие местности Советской России вы посетили за это время?
Ответ: Кроме Минска я побывал в Киеве, Москве и Ленинграде.
Вопрос: Вы встречались с Якушевым?
Ответ: Да.
Вопрос: При каких обстоятельствах?
Ответ: С Якушевым Александром Александровичем я первый раз встретился в начале января 1926 года в гор.Москве на его квартире (адрес не помню). Встрече с Якушевым предшествовало возникновение знакомства с членом организации по фамилии Шульц, с которым меня связал упоминавшийся выше "Антон Антонович". За все время пребывания в Москве я жил в дачном поселке, где проживал названный Шульц.
Вопрос: Назовите этот дачный поселок?
Ответ: Названия его я не помню, но знаю, что он находится по железнодорожному пути от Северного вокзала, примерно в 30 км.
Дня через два после того, как у меня состоялось знакомство с Шульцем, последний связал меня с Якушевым.
Вопрос: По какому адресу проживал Якушев?
Ответ: Адреса я не помню, но знаю, что в центральной части города.
Вопрос: Сколько раз вы с ним встречались?
Ответ: Три раза.
Вопрос: Какие вопросы обсуждались при этих встречах?
Ответ: При первой встрече присутствовали два неизвестных лица пожилого возраста, по внешнему виду оба представляли из себя солидных людей, причем один из них производил впечатление военного человека, хотя и одет был в гражданской одежде.
В разговоре со мной оба неизвестных строго соблюдали требования конспирации, и, беседуя со мной, интересовались положением русской эмиграции за границей. В частности их интересовали фигуры Врангеля и Кутепова.
По словам Якушева, организация "Трест" имела отношение к польскому генеральному штабу и он, будучи в хороших отношениях с поляками, даже обменялся с кем-то из них оружием и показал мне пистолет с отделанной в золотую оправу рукояткой.
Особо характерным в поведении Якушева было высказанное им сожаление по поводу того, что он не может меня связать с Троцким, которого он рассматривал как "государственного деятеля большого ума". В этом же разговоре он неожиданно поставил такой вопрос: "Вы знаете, что такое "Трест". Отвечая на него, заявил: "Трест" – это измена Советской власти, которая поднялась так высоко, что вы не можете себе этого представить". Фраза эта звучала несколько загадочно, но, несмотря на это Якушев комментировать ее не стал».
«Вопрос: Назовите членов контрреволюционной организации "Трест" с которыми вы встречались в Ленинграде и Киеве?
Ответ: Киев я посетил в сопровождении "Антона Антоновича" и встреч с какими-либо другими участниками контрреволюционной организации "Трест" там не произошло.
В Ленинград я выезжал самостоятельно, причем в ранее обусловленное время, меня встретил на вокзале неизвестный, который сопровождал меня по Ленинграду и познакомил во время обеда в одном из ресторанов на Садовой улице с целым рядом лиц, принадлежавших к контрреволюционной организации. Во время разговора с этими лицами соблюдал строгую конспирацию, а поэтому никаких данных о них я сообщить не могу.
В Ленинграде я пробыл несколько дней, и за это время у меня состоялась только одна встреча с участниками организации "Трест", о которых я показал выше. Во время обеда в ресторане мы обсуждали те же вопросы, какие служили темой при свидании с Якушевым.
Вопрос: На этом и закончилась ваша миссия по проверке деятельности контрреволюционной организации?
Ответ: Да, если не считать моих бесед с женой Шульца – Марией Владиславовной, у которых я жил в Москве на даче».
«Вопрос: Кутепов продолжал свою связь с Якушевым?
Ответ: Да.
Вопрос: Как долго?
Ответ: До апреля 1927 года, когда совершенно неожиданно для меня и для Кутепова возникла скандальная история.
Вопрос: Какая именно?
Ответ: В конце апреля 1927 г. Кутепов пригласил меня к себе на квартиру и сообщил, что организация "Трест", с которой мы были связаны, является ничем иным, как отделением ГПУ. Несколько времени тому назад он получил одновременно две телеграммы: одну – от Марии Владиславовны из Гельсингфорса, а вторую – от ее мужа из Вильно. Оба сообщали, что они бежали из Советской России, потому что убедились в том, что из себя представляет "Трест". Ввиду важности этого дела, Кутепов немедленно выехал в Финляндию, где имел свидание с Марией Владиславовной. Она сообщила Кутепову, что бежала из Советской России совместно с Оперпутом, который и "открыл ей глаза" на "Трест", объявив, что начиная от Якушева, все члены организации, кроме Марии Владиславовны и ее мужа, были агентами ГПУ. Финские власти, оставив Марию Владиславовну на свободе, заключили Оперпута в крепость.
Кутепов, якобы, добился разрешения повидаться с ним и имел беседу, после чего Оперпут вручил ему две записки, которые он за это время написал и которые Кутепов мне дал. В подтверждение своих слов Кутепов ознакомил меня с этими записками.
Насколько я помню, содержание их представляло собой заявление Оперпута, что "Трест" был одной из легенд, созданной ГПУ.
На основе этой легенды "Трест", якобы, имел целью работать против эмиграции и военных штабов, прилегающих к Советской России государств.
В дополнение к тому, что мне сообщил Кутепов, летом 1927 г. некий журналист Бурцев в одной из парижских газет написал статью, по содержанию аналогичную сообщению Кутепова. Это вызвало огромную сенсацию в рядах русских эмигрантов, а я со своей книгой "Три столицы", в которой "Трест" фигурировал как антисоветская организация, очутился в смешном и глупом положении. Это обстоятельство надолго оторвало меня от политической деятельности.
Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан.
Шульгин.
Допросил:
Зам[еститель] Начальника 4 отдела Управления Контрразведки "Смерш" 3 Упр[авления] подполковник Кин. (ЦА ФСБ РФ, д. N Р-48956, л. 19 – 65. Подлинник. Машинопись. Автограф).
Итак, как мы видим из протокола допроса, в послереволюционном Киеве большевистское руководство всячески оберегало и чуть ли не на руках носило патентованного монархиста и известного черносотенца В.В.Шульгина… Несмотря на его известную всем юдофобию, позднее отчетливо артикулированную им самим в изданной за рубежом в 1929 году документально-художественном произведении «Что нам в них не нравится…» в очень емкой фразе «Я – антисемит. Имею мужество об этом объявить всенародно. Впрочем для меня лично во всяком случае никакого нет тут мужества, ибо сто тысяч раз в течение двадцатипятилетнего своего политического действования о сем я заявлял, когда надо и не надо». Да, на момент его задержания киевскими чекистами (январь 1918 г.) знаменитое ленинское «Постановление Совета народных комиссаров о борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами» (РГАСПИ, Ф.2.Оп.1.Д.6727.Л.1-2) еще не было принято, но дух его уже ощутимо витал в воздухе.
Так откуда же у Георгия (Юрия) Леонидовича Пятакова – будущего лидера украинских коммунистов, основателя первого рабоче-крестьянского правительства в Украине и, кстати, будущего руководителя советской военной разведки (Региструпра РВСР), выдающуюся роль которого позднее отмечал сам Ленин в своем знаменитом «Письме к съезду», вдруг проявилось столь снисходительное отношение к «явной монархической контре» в лице бывшего думского говоруна? Чрезвычайно милосердным, что ли, был сей близкий соратник Ленина). Скорее наоборот: в 1920 году он возглавил (вместе с Белой Куном и Землячкой) т.н. Чрезвычайную тройку по Крыму, результаты репрессивоной деятельности которой сегодня широко известны.
Вот что писал наркому по делам национальностей И.В.Сталину бывший член коллегии Наркомнаца Султан-Галиев в апреле 1921 года; «По отзывам самих крымских работников, число расстрелянных врангелевских офицеров достигает во всем Крыму от 20 до 25 тысяч…Народная молва превозносит эту цифру для всего Крыма до 70 тысяч. Действительно ли это так, проверить мне не удалось. Самое скверное, что было в этом терроре, так это то, что среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, отставших от Врангеля с искренним и твердым решением честно служить Советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах».
По-видимому, разгадку необычного феномена столь благожелательного отношения советских властей и к личности самого В.В.Шульгина, и к обобщенной оценки его практической деятельности в сфере политики, литературы и публицистики стоит все же попытаться поискать в достаточно невнятной истории с послевоенной публикацией в СССР его главного литературного произведения – книги «Годы. Воспоминания члена Государственной Думы». Вот что писал 19 мая 1966 года, в день советской пионерии, сам автор в предисловии к своей книге.
«За долгую мою жизнь барьеров было много Сейчас я беру барьер, может быть, последний, и он не из легких. Это барьер – книга «Годы», которую я закончил и надеюсь увидеть напечатанной. Она будет четвертой моей книгой, изданной в Советском Союзе. Первые книги «Дни и «1920 год» вышли в 1927 году в издательстве «Прибой». Затем, после тридцатичетырехлетнего перерыва, в 1961 году, вышла мои «Письма к русским эмигрантам». И, наконец, сейчас – «Годы». Еще одно мое общение с читателем, вернее – со зрителем, было в 1965 году в картине «Перед судом истории». В книге «Дни» я говорил главным образом о событиях Февральской революции. В книге «1920 год» – о гражданской войне. В книге «Годы» я говорю о десятилетнем периоде, когда я был членом Государственной Думы… При всем разнообразии отдельных людей и человеческих типов некоторые черты встречаются у всех народов, национальностей и рас. Например, все люди, за редким исключением, испытывают патриотические чувства. В этом их сила и слабость. Сила, потому что на почве патриотизма создаются мощные коллективы и часто рождается ослепительное вдохновение, мужество, благородство и красота самопожертвования. Слабость же патриотизма в том, что он очень легко переходит в шовинизм. Шовинизм – это чудовище с зелеными глазами. Шовинисты превращают мир в сумасшедший дом. Кончается это свирепыми войнами…
Молиться надо не только за царские «грехи, за темные деянья», но и за всех погибших в поисках правды для земли Русской. Молиться надо и за нас, сугубо грешных, бессильных, безвольных и безнадежных путаников. Не оправдаем, а лишь смягчением нашей вины может быть то обстоятельство, что мы запутались в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века Поэтому да судит нас Высший Судья, ибо сказано: « Мне отмщение, и Аз воздам».
Как известно из этой автобиографической книги, на третий день после начала долго ожидаемого судебного процесса В.В.Шульгин написал в своей газете «Киевлянин» передовую статью в защиту обвиняемого Бейлиса. Номер, в котором содержалась эта статья, был тот час конфискован полицией, а редактор газеты был привлечен к суду «за распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах…», то есть был обвинен в клевете и даже якобы провел за это деяние непродолжительное время в тюремной камере. Не знаю, правда, каким образом, ведь он был защищен иммунитетом депутата Государственной Думы, Что же он наговорил в ней крамольного? Приводу цитату из статьи в изложении самого автора.
«Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий. При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов человеческих умов, русская юстиция должна была быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков, должна была понимать что ей необходимо создать обвинение настолько совершенное, настолько крепко кованное, чтобы о него разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднималась ему навстречу». С последним тезисом вряд ли можно спорить, это было очевидным. Только, спрашивается, при чем здесь дело Дрейфуса применительно к «кровавому навету против целого народа»? Во времена Дрейфуса во Франции мало кому в голову приходила шальная мысль обвинять «все еврейское население страны» в массовом шпионаже в пользу враждебной французам Германии, речь шла лишь о личностях и поступках двух офицерах французского Генерального штаба – Дрейфусе и Эстерхази.
Их текста статьи В.Шульгина. «Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа! Им, бедным,, темным людям, пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кого нет доброго и злого, а есть только выгода или невыгода политическая. Им, серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасать чистоту русского суда и честь русского имени. Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо старому Киеву, с высот которого свет опять засверкал на всей Русской земле!». Хорошо, сказано, пафосно, не правда ли?
Давайте, однако, не идти по привычной, хорошо укатанной «дороге с односторонним движением», который навязала обществу под влиянием Базельского конгресса тогдашняя российская и зарубежная пресса, а будем рассматривать картину во всей ее полноте. Про «киевских хохлов», оправдавших М.Бейлиса, наслышаны буквально все и притом повсюду, на любом углу. Но вот как быть с юридически закрепленным прояснением всех обстоятельств загадочной смерти несовершеннолетнего Андрея Ющинского, которое так и не состоялось до конца, кругом и рядом сплошь одни ничем не подтвержденные домыслы, умолчания и откровенная, неприкрытая ложь? Ведь вопросов, на которые предстояло ответить суду коллегии присяжных, было, как известно, всего два. Попробуйте-ка самостоятельно найти по стенограмме процесса неотреферированный ответ на первый из них – далеко не каждому это удастся. Изданная в России полная стенограмма процесса давно уже стала огромной библиографической редкостью, а на помоечных просторах интернета гуляют преимущественно лишь отдельные отрывки из речей выступавших свидетелей и экспертов. А звучали, согласно стенографическому отчету, вопрос и ответ на него полностью так.
«ПЕРВЫЙ ВОПРОСЪ.
Старшина присяжных читает:
„Доказано ли, что 12-го марта 1911 года в Киеве. на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из помещений кирпичнаго завода, принадлежащаго еврейской хирургической больнице и находяшагося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева, тринадцатилетнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшияся поранением мозговой вены, артерий, леваго виска, шейных вен, давшия вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Ющинскаго вытекла кровь в количестве до 5-ти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшияся поранениями легких, печени, правой почки, сердца, в область котораго были направлены последние удары, каковыя ранения в своей совокупности числом 47, вызвав мучительныя страдания у Ющинскаго, повлекли за собой почти полное обескровливание тела и смерть его".
Ответ присяжных заседателей:
– Да, доказано».
Слово «ритуальный», как мы видим, здесь отсутствует, зато факт почти полного обескровливания тела убитого кем-то подростка налицо. Так ради чего вообще писалась эта «эпохальная» книга В.В.Шульгина под названием «Годы», представлявшая собой некий актуализированный и приспособленный к требованиям текущего политического момента «римейк» его предыдущей книги «Дни»? Интересны в этой связи воспоминания академика Ю. А. Полякова о тех сложностях, которые возникли в связи с публикацией глав из этой книги, предпринятой в конце 1966 – начале 1967 гг. Автором предисловия к данной публикации был В.П.Владимиров (он же режиссер и сценарист кинофильма «Перед судом истории» (1965 г) по фамилии Вайншток). А послесловие написал историк Арон Яковлевич Аврех, ученик «лидера советской исторической науки» академика И.И.Минца и известный специалист по тематике отечественного масонства. Страсти вокруг этой публикации разыгрались очень нешуточные даже при том, что сама книга "Годы" была впоследствии выпущена с целым рядом пропусков и поправок весьма ограниченным, фактически закрытым, подписным тиражом в издательстве АПН в 1979 году с очевидным прицелом на зарубежную читательскую аудиторию. У меня именно это издание в библиотеке имеется, так что могу судить о нем вполне предметно.
Здесь, воленс-ноленс, придется обратиться к очень специфичной материи под названием «руматология». Руматология – это прикладная наука (точнее – научная дисциплина), специализирующаяся на фабрикации и распространении слухов. Классические примеры можно почерпнуть у американского писателя О’Генри в серии новелл о похождениях благородных жуликов Джеффа Питерса и Энди Таккера, в многочисленных байках о захватывающих повествованиях небезызвестного «любимца Андропова» журналиста Виктор Луи, равно как и у знаменитого строителя финансовых пирамид Сергея Мавроди. Слухи – это особо тонкий инструмент пропаганды (равно как и рекламы), особенно «политико-эзотерической». Известный анекдот «Вы слышали новость? Рабинович выиграл «Волгу» по лотерейному билету!», целенаправленный слив инсайда в ключевой момент, запуск легенд о «чудесах» Вольфа Мессинга – все это инструментарий слухов, богатый арсенал данного метода. Слух – это, по классическому определению, информационно-эмоционально значимое сообщение, внешне выглядящее как объективистское, совершенно нейтральное и вроде бы безадресное. На деле же, как утверждал Джеймс Хэдли Чейз, «все имеет свою цену», в том числе и правда, и ложь… Это целиком и полностью с теорией, которую активно развивал в довоенные годы упомянутый нами русско-французский ученый Койрэ. Посмотрим это на примере одного примечательного происшествия из очень богатой на различные авантюрные приключения жизни видного русского монархиста, принимавшего отречение Николая II.

