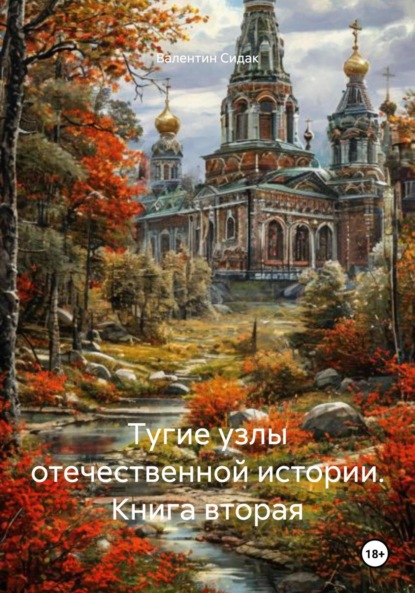
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Книга вторая
Да, Короленко как в воду глядел! «Suum cuique» (каждому свое) – вот и получай, что заслужил. Царя-батюшку и всех его родственников новые «союзнички В.В.Шульгина» из числе местной и зарубежной масонской креатуры уже вскорости на тот свет благополучно спровадят не без его активного участия в политическом спектакле под названием «отречение Николая II». Все основные участники «дела Бейлиса» (кроме него самого) стараниями Киевской ЧК дружно последуют на тот свет. А ложь, у которой, как образно говорится в народном фольклоре, «короткие ноги», несмотря ни на что, будет жить вечно. По крайней мере до тех пор, пока на белом свете будут существовать структуры, которые заинтересованы в этом инструменте для достижения нужных им целей и получения нужных результатов.
Есть целый ряд закрытых научных исследований по тематике анализа этнического (или национального, как вам будет удобнее) состава бывшей, то есть уже недействующей, агентуры органов безопасности СССР. Следует отчетливо сознавать и всегда помнить, что между агентурным аппаратом КГБ СССР (или КГБ при СМ СССР) и органов НКВД или МГБ СССР, не говоря уже о ЧК-ГПУ-ОГПУ, пролегает дистанция огромного размера. Ибо задачи, поставленные в различные периоды перед органами безопасности СССР политическим руководством страны, заметно различались и по своему целеполаганию, и по степени их приоритетности. Однако ряд общих черт, присущих в целом общей массе советской агентуры (как внутренней, так и зарубежной) все же прослеживались достаточно отчетливо. С реферативными изложениями основного содержания некоторых из этих исследований я в свое время знакомился по долгу службы, особенно когда в период т.н. перестройки перед руководством КГБ достаточно остро встал в практической плоскости очень непростой и весьма дискуссионный вопрос о пределах рассекречивания архивных оперативных дел сталинского (а если быть более точным – довоенного) периода. Именно тогда вскрылась одна достаточно неприятная подробность по так называемому пятому пункту в среде «идейных» доносчиков («инициативников-стукачей»), особенно из числа тех из них, в действиях которых явно проглядывались корыстные, «шкурные» интересы, внешне замаскированные заботой о благе государства. Особенно отчетливо это наблюдалось на примере Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов с особым режимом паспортной прописки в связи с введением в стране единой внутренней паспортной системы. Поистине святое дело: поистине «по-пролетарски» классово наклепать на бывшего дворянина, купца, нэпмана и пр. в «соответствующие органы» и затем победно въехать в освободившееся им жильё!
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на данные современной социологии относительно трех волн еврейской эмиграции в царской России и довоенном Советском Союзе. Первая, как известно, – в США, Аргентину, Канаду, Палестину и др. страны (1881-1914 гг.), вторая – движение из черты оседлости в революцию (1917-1921 гг.), а с 1923 по 1932 гг. – «массовый исход» из сельской местности в города. Есть такой выдающийся советский экономист и видный исследователь проблем еврейства в СССР, с которым особо не поспоришь, по фамилии Ю.А.Ларин (Лурье), тесть Н.И.Бухарина к тому же. В 1929 году он издал очень известную, моно сказать – хрестоматийную, книгу под названием «Евреи и антисемитизм в СССР». В главе третьей под названием «Территориальная перегруппировка еврейского населения» он, в частности, написал следующие строки.
«Существенное изменение в распределении еврейского населения заключается в том, что за десятилнетие совеской власти еврейское население из преимущественно местечкового ( и мелкогородского) превратилось в преимущественно крупногородсконе… Москве при советской власти было три переписи населения. Первая перепись было в 1920 г. Тогда в Москве было всего 1270 тысяч жителей. Из них евреев было всего 28 тысяч человек, т.е. всего 2,2 %. Широкое переселение началось в 1920 г., так как только к этому времени кончилась гражданская война и открылось свободное сообщение с Украиной и Белоруссиеей. И уже по весенней переписи 1923 г. в Москве оказывается 5,6 % евреев из всех жителей Москвы. Наконец, последняя перепись была 16 декабря 1926 года…За 7 лет в Москве прибывилось примерно 700 тысяч жителей, и в том числе прибавилось 100 тысяч евреев. В одну Москву переселилось 100 тысяч человек из тех 500 тыся\ч еврпеев, которые вообще переселились из Украины и из Белоруссии в другие советские республики за время советской власти…Это явление…есть явление совершенно естественноек, неизбежное, необходимое, которое и дальше будет продолжаться…Надо прямо говорить: да, мы пускали,пускаем и будем пускать и далее евреев в Москву так же, как пускаем поляков, немцев и представителей всх других нацииональностей. Нужно создать в рабочей среде такое настроение, что всякий, кто выступает с речами против въезда евреев Москву- что каждый такой человек, вольно или невольно, контрреволюционер».
Первая Всероссийская перепись населения 1897 года: в городской черте Москвы проживало около 1 млн.человек, из наиболее заметных этнодиаспорных групп были немцы (18 тыс. или 1,8 %), поляки (9 тыс. или 0,9 %) и евреи (5 тысяч или 0,5 %). А вот по данным местной еврейской общины в 1871 году в Москве насчитывалось 8 тыс. евреев, в 1879 – 13 тыс,, 1889 – океоло 16 тыс., в 1889 – приемно 26 тыс, в 1981 – уже 35 тысяч. В это время среди купцов 1-1 гильдии евреи составляли пятую часть, они сыграли заметную роль в ставновлении и развитии банковского дела в первопрестольной. Противали зачиточные слои преимущественно в Зарядье, в Мясницкой, Сретенской, Арбатской и Тверской частях города, а в пригородах – в Марьиной Роще, Черкизово, Всехсвятское, а также в Перово и в Малаховке.
Материалы переписи 1912 года по Москве свидетельствуют, что пришлые (некоренное)население составляло 79 процентов. Первая Всесоюзная перепись 1926 года: население города составляло чуть более 2 млн. че., в том числе евреев -131 тыс. (6,5 процента). По данным московской еврейской общины, в 1920-1941 г.. чмсленность еврейского населения страмительно возрастала: в 1923 г. – примерно 86 тыс. человек, в 1926 – 131 тыс., 1933 – более 226 тыс., в 1939 – 250 тысяч. Селились они преимущественно в районах, где и до революции было значительное количество еврейского населения (Сретенка, Маросейка, Большая Никитская, Сокол, Марьина Роща, Черкизово), а также в новых районах Коптево, Петровско-Разумовское, Останкино. Давыдково. Но вот почему и в силу каких причин стала складываться эта весьма специфическая послереволюционная картина?
Был период, когда в верхних эшелонах руководства КГБ стал пробивать дорогу тезис примерно такого содержания: «Коль скоро при Хрущеве органы госбезопасности сделали «крайними» во всех политических игрищах довоенного периода, «повесили на них» ответственность за все реальные и мнимые «преступления сталинского режима» и основательно почистили при этом значительный массив оперативной информации, давайте не повторять прежних ошибок, не идти на поводу у команды А.Н.Яковлева в разворачивании в стране очередного витка антисталинской истерии и по наиболее общественно-значимым проблемам (как, например, убийство С.М.Кирова, «шахтинское днло», дело М.Н.Тухачевского и других военачальников в рамках «заговора военных», дело Н.И.Вавилова и пр.), и предоставим обществу реальную картину во всей ее полноте, невзирая на очевидный негативный эффект от предстоящих публичных разоблачений бытовавших тогда в газетной и журнальной пропаганде многочисленных измышлений, корни которых растут из хрущевского прошлого». Основной довод при этом был следующий: нынешний руководящий и оперативный состав органов КГБ СССР не имеет ничего общего с лицами, запятнавшими своими негативными поступками высокое звание советского чекиста, и не может нести ответственности за их действия, совершенные в период массовых репрессий».
В.А.Крючков, который, как известно, не раз и не два в кругу своих коллег по профессии подчеркивал, что не так страшна ложь, как страшна полуправда, тоже склонялся к тому, чтобы от «дозированной гласности» и откровенной спекуляции на антисталинской риторике непрерывных «разоблачений» в прессе и электронных СМИ перейти к более сбалансированному освещению целого ряда «белых пятен» и «черных страниц» отечественной истории. Предполагалось, в частности, допустить к ознакомлению с архивными материалами наиболее общественно-значимых оперативных и следственных дел органов госбезопасности не только ближайших родственников пострадавших (репрессированных), отдельных специально отобранных представителей ряда СМИ, но также и исследователей из специализированной научной среды.
Кто «задробил» тогда эту полезную политическую инициативу чекистов? Вновь образованная Идеологическая комиссия ЦК КПСС, сформированная 30 сентября 1988 года на Пленуме ЦК КПСС, в которую были влиты отделы пропаганды, культуры, науки и учебных заведений ЦК. Возглавил комиссию член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС В.А.Медведев, за спиной которого всегда неизменно и отчетливо маячила тень А.Н.Яковлева. Сам Яковлев переходит от заунывной и надоедливой пропаганды в гораздо более масштабную и ответственную сферу руководства внешней политикой страны, а его вечный антагонист Лигачев «загнан в бутылку» – послан куратором сельского хозяйства. Про невинную жертву горбачевской перестройки А.А.Громыко я даже поминать здесь не желаю, сам виноват, выпустив на мировую авансцену «меченого без намордника» – вот и наказал тебя за это Всевышний уже менее, чем через год. Кстати, попробуйте-ка самостоятельно поискать что-либо внятное о повседневной деятельности этой «комиссии» вплоть до августовских событий 1991 года – зубы и ногти себе обломаете в результате безуспешных стараний получить конкретные сведения о буднях нашей новейшей истории.
Из совершенно секретной записки комиссии Политбюро от 25 декабря 1988 года. На первом месте – вопрос признания антиконституционности, противоправности «троек», «двоек», особых совещаний, списков и т.п. Значительная часть приговоров по репрессивным делам была вынесена именно этими, несудебными и неконституционными органами». Я был в числе тех руководителей Комитета, которые предлагали: давайте опубликуем полный списочный состав этих «несудебных и неконституционных органов» – и пусть люди сами разбираются, что к чему, без ненужных подсказок сверху и достаточно ангажированных комментариев в духе «во всем виноват лично Сталин». Комиссия, кстати, именно к этому и вела дело, предложив рассмотреть вопрос «о личной ответственности Сталина и его непосредственного (?) окружения за организацию и осуществление массовых репрессий, насаждение противоправной, антиконституционной практики». (РГАНИ, Ф.107, 1 оп., 49 ед, хранения, крайние даты:1987-1990, рассекречено частично). В результате работы комиссии в 1988-1991 гг. было реабилитировано более 1 млн. незаконно осужденных советских граждан. В ход пошли аргументы, появление которых в публичном пространстве былоа Весь путь Л,М.Кагановича как политического деятеля связан с вероломством и репрессиями. Известны тяжелые последствия его деятельности в годы коллективизации на Украине, в Воронежской области, на Северном Кавказе, в Западной Сибири. Именно Каганович в начале 30-х годов выдвинул предложение о введении чрезвычайных внесудебных органов – так называпемых «троек».
В качестве иллюстрации приведу отрывок из материалов «Экспертного заключения по делу КПСС (1992)». «В период пребывания КПСС у власти ее руководящий аппарат в центре и на местах несколько раз развязывал кампании массовых репрессий, ответственность за проведение которых каждый раз перекладывал на полностью подконтрольные ему карательные органы. Мы полагаем, что организация и проведение таких репрессий несут в себе признаки преступлений против человечности. А когда эпоха массовых репрессий отошла в прошлое, партийный аппарат позволял себе регулярное вмешательство в отправление правосудия, зачастую с целью расправы со своими оппонентами».
Так что же не глянулось Идеологической комиссии ЦК КПСС во главе с Медведевым и созданной тогда же комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х – начала 50-х гг. во главе с Яковлевым в предложениях КГБ? Да прежде всего то, что в подготовленных чуть ли не по ультимативному требованию «правозащитников эпохи перестройки и нового политического мышления» обобщенных аналитических материалах КГБ СССР стал, пусть и неявно, но все зато более и более отчетливо, проглядываться преобладающий этнический состав «гильдии стукачей ОГПУ-НКВД», особенно в Москве, Ленинграде и в других крупнейший городах Советского Союза. Когда к этому был присовокуплен процент инородцев среди действующей и архивной агентуры органов безопасности (естественно, в полностью обезличенном виде, в форме статистических данных), то общая картина характеристики главных авторов и непосредственных исполнителей «сталинских репрессий» стала настолько впечатляющей, что данный вопрос был тут же переведен Комиссией в иную плоскость. А дальнейший разговор об условных «следователях Хватах», направленных в органы госбезопасности по партийно-комсомольскому наборы, вообще был свернут как «политически нежелательный» с точки зрения возможного провоцирования новой волны «антисемитизма» в стране.
Была в истории органов следствия ОГПУ-НКВД одна экзотическая личность – сержант ГБ по фамилии Софья Оскаровна Гертнер-Иванова, следователь Ленинградского управления. Очень изобретательной была по части пыток подследственных, за что и получила от своих коллег прозвище «Сонька Золотая Ножка» (или «Костяная», кто знает с уверенностью. В 1939 году по указанию Л.П.Берии ее арестовали как одиозную фигуру периода «ежовщины». И что же она поведала на допросах своим коллегам? А вот что: «Я девять лет проработала в органах НКВД и во время операций 1937-1938 годов выполняла преступные методы ведения следственных дел, которые исходили от Заковского, Шапиро и Мигберта, ныне врагов народа, на которых я не могла в то время подумать. Они вдивали мне в голову преступные методы. Я была единственной женщиной, которая работала на следствии, и дошла почти до сумасшедствия, всем исходящим от руководства указаниям я верила и так же, как и все остальные работники, их выполняла, но дел, бывших у меня в производстве без материалов, я не брала. Я виновата в том, что делала натяжки в протоколах допроса обвиняемых, била их, но это все я делала без всякого умысла и к тому же с распоряжения начальства, думая, что это нужно…Теперь я потеряла все, я потеряла партию и потеряла мужа. Прошу суд учесть мою 9-летнюю работе в органах НКВД и вынести справедливый приговор…».
Упоминаемый ею Исаак Ильич Шапиро был моим отдаленным предшественником на посту начальника Секретариата НКВД СССР, старшим майором государственной безопасности. Он готовил для «доклада наверх» ежедневные сводки важнейших показаний арестованных по ГУГБ НКВД СССР (сейчас они хранятся в АП РФ, ф.3, Оп.24). Очень информативный материал, должен вам сказать! Из этих сводок сразу видно, кто из следователей-чекистов удостоился «особой чести» допрашивать наиболее важных заключенных в 1937-1938 гг.
Следует добавить к этому, что в период с марта по ноябрь 1938 года И.И.Шапиро возглавлял также т.н. 1-й Спецотдел НКВД СССР, звонко прославившийся впоследствии после отыскания в нем знаменитой «рукописной записки Шелепина» по т.н. «Катынскому делу». Именно в ней имелась ссылка на какое-то непонятное «Постановление ЦК КПСС от 5-го марта 1940 года» (а на деле – решение Политбюро ЦК ВКП (Б), в котором фигурировал начальник 1-го спецотдела Л.Ф.Баштаков, внесенный в докладную записку Л.П.Берии чуть ли не лично рукой (!) И.В.Сталина!). Самое интересное в этом эпизоде то, что данное решение Политбюро состоялось ровно в тот день и час (5 марта 1940 года), что и Приказ НКВД СССР №308 от 05.03.1940 о назначении Л.Ф.Баштакова начальником 1-го Спецотдела НКВД, что теоретически возможно, но на практике крайне маловероятно. Всю историю с расследованием покойного В.И.Илюхина по материалам «Особой папки» я знаю, он и ко мне неоднократно обращался за советом и мнением, но у меня была своя собственная позиция по данному вопросу, и я ей неизменно следовал. Ничего особо сенсационного касательно личности и деяний Л.Ф.Баштакова я тем самым не хочу кому-либо доказывать, но, как говорится в известном английском анекдоте, «Сэр, муха не ошибается!».
Так что же не глянулось Идеологической комиссии ЦК КПСС во главе с Медведевым и созданной тогда же комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х – начала 50-х гг. во главе с Яковлевым в предложениях КГБ? Прежде всего то, что в подготовленных по ультимативному требованию депутатской группы «профессиональных правозащитников эпохи перестройки и нового политического мышления» обобщенных аналитических материалах стал пусть пока еще и неявно, но все более и более отчетливо проглядываться характерный этнический окрас созданной стараниями СМИ «гильдии штатных стукачей и вертухаев», особенно в Москве, Ленинграде и других крупнейший советских городах. Когда к этому анализу чекисты «в докладах наверх» присовокупили также выборочную статистику процентного состава евреев среди действующей и архивной агентуры в некоторых высокомобильных социальных слоях и профессиях, картина стала настолько очевидной и впечатляющей, что вопрос быстренько-быстренько был переведен Комиссией в несколько иную плоскость, уже с «правильно смещенными основными акцентами». Почему я упомянул в этой связи 1-й Спецотдел НКВД СССР? По целому ряду причин.
Во-первых, лишь с его появлением в 1938 году и вследствие окончательного становления единой системы оперативного учета буквально накануне ВОВ впервые появилась возможность получить, наконец-то, хотя бы более-менее объемную, «непричесанную и неприглаженную» картину всего того, что реально творилось у нас в сфере формирования негласного аппарата органов безопасности и правоохранительных органов на местах. До этого централизация нужных оперативных сведений (как по действующей, так и по архивной агентуре, равно как и по секретным сотрудникам негласного и внештатного составов) была достигнута лишь в пределах сферы оперативно-следственной деятельности подразделений центрального аппарата КНВД, его территориальных управлений в Москве и Московской области.
Из Приказа народного комиссара внутренних дел СССР Л.П.Берии №00788 от 10.12.1938 года «О результатах обследования работы 1-го Специального отдела НКВД СССР»: « Проверка работы 1 Спецотдела НКВД СССР выявила преступную запущенность и полную неразбериху в организации оперативного учета, обработки и хранения дел, а также засоренность Отдела чуждыми в политическом отношении сомнительными элементами. Вредительское руководство, в лице бывших начальников 1 Спецотдела – Цесарского и Шапиро и их заместителя Зубкина, умышленно создавало хаос в работе Отдела и не очищало кадры работников от лиц, на которых давно имелись прямые данные об их контрреволюционных, шпионских связях.. Цесарский, Шапиро и Зубкин засоряли аппарат политически чуждыми и сомнительными элементами, затирая, сознательно не выдвигая честных, преданных партии и власти работников, вызывая тем самым среди них недовольство».
Во-вторых, именно они готовили для партийных и контрольно-наблюдательных инстанций обобщенные сведения по результатам деятельности различных внесудебных органов, особенно в сфере оценок масштабов осуществлявшихся в 30-х годах массовых «сталинских репрессий» и размеров безвозвратных потерь среди населения. Приведу в качестве примера знаменитую рукописную таблицу за подписью и.о. начальника 1 Спецотдела МВД СССР Павлова от 11 декабря 1953 года, подготовленную для Н.С.Хрущева, под названием «Справка о количестве осужденных по делам органов НКВД за 1937-1938 годы»: всего осуждено в 1921-1938 гг. 2 944 879 чел., приговорено к высшей мере наказания 745 220 чел. Другой документ то же отдела за той же датой называется «Справка о количестве осужденных по делам органов НКВД-МГБ-МВД за 1939-1953 годы»: всего осуждено за контрреволюционные преступления 1 115 427 чел, в том числе по статье 58-10 – 274 125 чел, к высшей мере наказания приговорено 54 235 человек. На архивные данные оперативно-справочного отдела по преимуществу опирались и в дальнейшем при составлении докладных записок КГБ СССР в ЦК КПСС.
В-третьих, в составе 1-го Спеuотдела в декабре 1938 года было сформировано 2-е отделение, на которое были возложены функции учета опечатанных квартир, описанного имущества, конфискатов и содержания камер хранения. Насколько это было жизненно важным для руководства НКВД, видно хотя бы из текста докладной записки на имя Сталина за подписями Ежова и Берии, датированной октябрем 1938 года. По этой записке было принято решение Политбюро ЦК ВКП (б) №П65/12 от 1.11.1938 г. («Особая папка») «О квартирах для работников НКВД»: «Передать в распоряжение НКВД СССР 1 900 комнат из числа опечатанной в Москве жилищной площади репрессированных – для размещения сотрудников, и 600 комнат для вселения в них семей репрессированных, которые будут удалены с площади, передаваемой НКВД. Всего 2 500 комнат… Возобновить действие постановления СНК СССР о закреплении за НКВД жилищной площади, освобождаемой сотрудниками НКВДВ чьих бы домах они не проживали». Тем же решением в распоряжение НКВД передавалась «мебель, подлежащая, при наличии судебных решений о конфискации, сдаче в госфонд и находящаяся в опечатанных квартирах, переходящих в жилищный фонд НКВД». Думается, комментарии здесь совершенно излишни. Хотя бы относительно того, кто же в системе органов НКВД был наиболее осведомлен о конкретных адресах тех москвичей, которых, по меткому выражению М.Булгакова, более всего «испортил жилищный вопрос». Напомню в этой связи нашумевшую историю с участием одного из наиболее доверенных приближенных Генриха Ягоды – Александра Яковлевича Лурье, который через диамантеров Френкеля, Оппенгеймера, Гернштейна и Берензона реализовывал на Западе по заниженным ценам бриллианты и иные ценности, экспроприированные у «бывших людей», и якобы направляя вырученные денежные средства на цели развития внутриведомственного жилищного строительства, находившегося под прямым контролем Ягоды и Буланова.
Сегодня почему-то не очень принято вспоминать, что «Динамо», которое задумывалось в 1923 году, ровно 100 лет тому назад, как Московское пролетарское спортивное общество (ПСО), хотя и не сразу, но достаточно быстро скоро трансформировалось из военно-спортивной общественной организации в торгово-производственный кооператив с немалым оборотом денежных средств и с немалой прибылью от проведения различного рода далеко не физкультурно-спортивных мероприятий. Упомянутый мною А.Я.Лурье допрашивался НКВД в качестве председателя кооператива спортивного общества «Динамо». Вы чего-нибудь слышали о Жилом комбинате ОГПУ, который официально известен как жилой дом спортивного общества «Динамо» между Малой Лубянкой и Фуркасовским переулком, на первом этаже которого размещался вначале спортивный магазин одноименного названия, а впоследствии знаменитый «40-й гастроном»? Нет? А ведь это был грандиозный ансамбль помеси неоклассицизма с конструктивизмом в исполнении архитекторов И.А.Фомина и А.Я.Лангмана, состоявший из административной части и жилого корпуса, представлявший собой реплику здания Центрального телеграфа архитектора И.И.Рерберга на Тверской улице, являющегося одним из признанных символов советской Москвы с его вращающимся «пролетарским земным шаром». В 1940 году жилой комплекс и спортивный магазин «Динамо» были переведены в другой весьма нехилый комплекс НКВД по адресу Тверская-Ямская улица, д.11, где ранее находился монументальный храм Василия Кесарийского с часовней – творением архитектора Фёдора Шехтеля. В нем когда-то проживали многие «чекисты на слуху» – от диверсанта и разведчика Судоплатова до «зловещего» следователя-душителя академика Н.И.Вавилова Хвата, которого именно «ценой героических усилий отыскала» журналистка «Московских новостей» Евгения Альбац.
Вот для строительства этих домов, равно как и знаменитого «особняка Ягоды на улице Мархлевского» (ныне Милютинский переулок) архитектора Лангмана, Центрального стадиона «Динамо» (архитекторы Лангман и Чериковер), поликлиники НКВД в Варсонофьевском переулке ( архитектор Чериковер), жилого дома НКВД на Рождественском бульваре ( архитекторы Лангман и Арбузников), общественного корпуса Болшевской трудовой коммуны ОГПУ в г.Королев (архитекторы Лангман и Чериковер), жилого дома НКВД в Большом Комсомольском (Златоустьинском) переулке (архитекторы, Лангман, Чериковер, Арбузникрв) и возведения многих других ведомственных сооружений добывал не совсем обычным способом денежные средства Лурье, сбывая за рубежом консфискованные у «врагов народа» ценности. Кстати, народный дом имели Короленко в Полтаве (где в мои времена находилась знаменитая школоа №10, в которой первым диектором был А.С.Макаренко учлиь ракетостроитнль В.Н.Челомей и Герой Советского Союза Ляля Убийвовк – тоже архитектурное творение А.Я.Лангмана.



