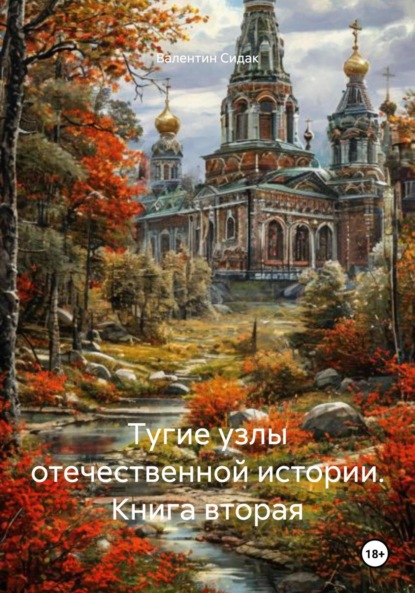
Полная версия:
Тугие узлы отечественной истории. Книга вторая
«Агентурные (!) сведения подтвердились. В нешифрованном фонде библиотеки Академии Наук найдено: оригинал отречения Николая и Михаила, архив: департамента полиции, третьего департамента, канцелярии Николая, охранки, ЦК эсеров, кадетов, митрополита Стадницкого, особого совещания при Николае, военного министерства, казначейства, герцога Макленбург-Стрелицкого, 66 томов дневника Константина Романова – каждый том закрыт специальным замком. Всё это опечатано и охрана поставлена. В Пушкинском доме семь ящиков архива шефа корпуса жандармов Джунковского, часть архива Константина Романова и так далее. В Пушкинском доме опечатано два помещения с материалами. В Археографической комиссии найдено: доклад Николаю о войне и большой архив князя Михаила Николаевича. Опечатан шкаф с материалами. Завтра приступаю к подробной описи документов. Есть основания предполагать, что не всё ещё выявлено. Сообщите, направлять ли материалы в Москву. Считаем целесообразным создание специальной правительственной комиссии из трёх человек под председательством Фигатнера для рассмотрения несдачи материалов Академией Наук, это может помочь нам вскрыть очень многое. Кандидатов в члены комиссии представим дополнительно. Ждём указаний» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135). Да, на мой взгляд одних лишь архивов третьего департамента полиции и семи ящиков личного архива шефа жандармов Джунковского уже вполне достаточно для зарождения политической сенсации, а тут вдруг внезапно такое археологическое счастье ленинградским чекистам Сергея Мироновича с небес привалило!
Одновременно Фигатнер скрытно, в тайне от официального историка партии и куратора работы АН СССР от ЦК академика М.Покровского подготовил подробный отчет для доклада председателю Центральной контрольной комиссии ВКП(б) Г.К (Серго) Орджоникидзе. В четырёх разделах своего отчёта Фигатнер подробно перечислил самые крупные находки. Первый раздел он озаглавил «отречение Николая и Михаила». Там, в частности, утверждалось: «Отречение Николая и Михаила поступило в нешифрованный фонд Академии наук летом 1917 года от сенатора Старицкого и академика Дьяконова, который был назначен Временным Правительством сенатором. Хранились оба эти документа у заведующего нешифрованным фондом В.И. Срезневского. О хранении отречения знали академики Дьяконов, Шахматов, Соболевский, Никольский, Платонов, Ольденбург, проф. Рождественский, возможно и другие. В виду заявления академика Платонова, что имеется несколько вариантов отречения Николая и его предположения, что это может быть и не оригинал, мною, по согласованию с т.т. Петерсом и Аграновым, было созвано специальное совещание с участием академиков Ферсмана, Ольденбурга, Борисяк, проф. Никифорова, Щеголева, зам. зав. Ленинградским Отделом Центроархива, и специалистов по автографии. Изучение этой подписи продолжалось с 2 по 5 часов дня. Совещание единодушно установило, что это есть оригинал…» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, л. 5).
Во втором разделе своего отчёта «14-я комната» Фигатнер рассказал о других важных находках в рукописи отделения Библиотеки Академии наук. «В 14-й комнате, – уточнил он, – нами найдены и изъяты: часть архива Департамента полиции; 3-го Департамента жандармского корпуса; Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей; архив ЦК кадетов, часть архива ЦК эсеров; материалы Петербургской охранки; архив Сватинова, комиссара Временного Правительства, материал, по словам т. Агранова, имеющий чрезвычайно крупное значение в связи с возможностью установления целого ряда агентур охранки; архив митрополита Антона Старицкого (сейчас он в Соловках)…».
Третий раздел отчёта был посвящён находкам в Пушкинском доме, в частности, архиву бывшего шефа корпусов жандармов Джунковского. Об изъятых докладах штаба армии Николаю II Фигатнер рассказал в четвёртом разделе отчёта «Археографическая комиссия». Кроме того, Фигатнер сообщил о найденных его комиссией в Ленинграде еще десяти важных фондах. «Все эти материалы, – подчеркнул он, – опечатаны и находятся под охраной. Мною также опечатаны два подвала магазина нешифрованного фонда. По заявлению заведующего этого нешифрованного фонда Срезневского, там имеется ещё очень много чрезвычайно ценного интересного для нас материала». Отдельно Фигатнер прошёлся по некоторым академическим институтам и комиссиям, в которых, по его мнению, могли в тайне от Кремля храниться секретные документы. Далее Фигатнер сообщил, что чекисты уже провели первые задержания, а также попросил Центр выделить группу специалистов, которая могла бы в течение месяца разобраться с остававшимися в нешифрованном фонде Академии наук материалами. По поручению Орджоникидзе отчёт Фигатнера 28 октября был разослан всем членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП(б)».
Политбюро ЦК, рассмотрев сразу обе шифровки Фигатнера и Кирова, опросным порядком постановило: «Принять предложение т.Орджоникидзе о создании, согласно предложению т.т.Кирова и Фигатнера, комиссии РКИ для приёма дел и расследования всего дела в составе т.т.Фигатнера (председатель), Петерса и Агранова». Петерс, как известно, входил тогда в состав коллегии ОГПУ, а Агранов руководил в чекистском ведомстве секретно-политическим отделом. Уже 23 октября чекисты выписали первые ордера на аресты подозреваемых. 24 октября Фигатнер, Петерс и Агранов вначале вызвали на беседу Ольденбурга, а затем произвели «опросы» В.Срезневского, И.Кубасова, Н.Измайлова и С.Платонова. Особый интерес представляют результаты опроса чекистом Аграновым академика Платонова, взглянем на них внимательнее на основе материала, опубликованного в 1993 году в журнале «Исторический архив» (№1).
«Агранов: У меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, когда Вам стало известно, что в Рукописном отделении Академии наук хранятся подлинные акты отречения Николая и Михаила Романовых?
Платонов: Точной даты не могу сказать, но думаю, вероятно, 1927 г.
Агранов: От кого впервые стало известно?
Платонов: Я скажу. Это история довольно случайная. Я сделался директором Библиотеки в 25 г. Ничего об этом не знал. Незадолго до своей кончины Модзалевский передал четвертушку бумаги (на каком-то бланке) о том, что сенатор Дьяконов и Старицкий передают через Котляревского (покойного) Академии два акта на хранение в Библиотеке. Т.к. рукописное отделение было под моим начальством, я отправился к Срезневскому (к начальнику отделения), предъявил бумагу и сказал: «У Вас?» – Говорит: «Да».– «В описи есть?» – «Есть». Я не знаю, цела ли книга и имели ли Вы её? Был пакет Старицкого, № 607 и был сбоку четырёхугольник (диагональ и какой-то значок). Говорит: «Что это?» – «Это обозначение, что мы получили».– «Покажите». Он показал, и я приказал хранить эту четвертушку вместе.
Агранов: Вы сказали Ольденбургу, что хранятся такие акты?
Платонов: Да, но должен сказать, не придал значения уникального, потому что из литературных источников знал, что несколько раз переделывался текст.
Агранов: По воспоминаниям Шульгина известно, что подлинник, на котором подписывался Николай, имел подчистку.
Платонов: Я не заметил. Должен сказать, не придал значения».
Очень подробно вся эта история с найденным в фондах Библиотеки Академии наук СССР «актом отречения царя» описана в статье питерского журналиста Михаила Сафонова в международной газете «Х-файлы. Секретные материалы 20 века» в статье «Академическое дело и отречение царя» от 13 мая 2013 года, №11 (371), поэтому особо интересующихся деталями этой истории отсылаю к ней.
Я сейчас намеренно оставляю в стороне не только все многочисленные недоуменные вопросы, но также и полностью справедливые оценки тому бардаку, который, если верить вышеупомянутым историческим источникам, творился во многих советских учреждениях «колыбели Великой Октябрьской социалистической революции» – города Ленинграда – более чем через десятилетие после большевистского переворота и завершения гражданской войны в центральной части России. Архивы царской полиции в Пушкинском доме – это уже само по себе звучит почти как политический анекдот! Но ведь по «делу академиков» прошло в общей численности ни много, ни мало порядка 150 человек, причем большинство из них, по данным следствия, составляли «скрытые контрреволюционеры-монархисты». Напомню в этой связи следующее немаловажное обстоятельство: с марта 1918 года архивами в России заведовало Главное архивное управление при Наркомпросе РСФСР – главном заповеднике троцкизма в тот период, контролировавшем в 1920-1930 гг. практически все культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения и пр. С января 1922 по февраль 1925 года все исторические архивы в стране были полностью децентрализованными, ими фактически руководили и бесконтрольно хозяйничали в них местные губернские власти. Лишь в 1938 году НКВД наложило свою суровую «лубянную лапу ЧК» на архивное дело в стране и создало Главное архивное управление НКВД СССР (Главархив СССР). Приравняв тем самым по своему статусу военнослужащих и вольнонаемных работников госархива и, к примеру, того же ГУЛАГа.
Всем хорошо известно, что Григорий Евсеевич Зиновьев (он же Овсей-Гершон Аронович Радомысльский), ближайший друг и сподвижник своего не менее знаменитого земляка Льва Давидовича Троцкого (Бронштейна), до 1926 года являлся членом Политбюро ЦК, руководил Петроградским (Ленинградским) Советом и, одновременно, возглавлял Исполком Коминтерна – основной руководящий орган советской разведывательной структуры того периода. В стольном граде Питере общепризнанный в СССР «революционный диктатор» и «вождь Коминтерна» мог в те веселые времена творить все, что ему заблагорассудится! Ведь не зря же ему дали популярную в народе кличку «Гришка Третий» (следующий по большому историческому счету после Отрепьева и Распутина). Итак, объединенные троцкисты-зиновьевцы Ленинграда имели прямой и бесперебойный доступ к важнейшим архивным материалам, в том числе и относившихся к истории с отречением от трона Николая II. Отношение к ним они имели самое что ни на есть непосредственное, но всячески маскировали свою глубинную политическую заинтересованность интересами «правильного, истинно классового подходе» в освещении содержимого данных документов некими таинственными происками «недобитых монархистов», якобы тесно связанных с «мировой закулисой».
Вот еще один любопытный документ на ту же тему. 5 ноября 1929 года вопрос о находках в библиотеке Академии наук обсудило Оргбюро ЦК ВКП(б). Бюро постановило: «Для приёма и разбора материалов специального характера назначить комиссию в составе: т.т.Фигатнера (предс.), Пятницкого, Ярославского, Савельева» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, д. 25). Подписал постановление секретарь ВКП (б) А.П.Смирнов, бывший депутат разогнанного большевиками Учредительного собрания, бывший нарком земледелия РСФСР и глава Крестьянского Интернационала (Крестинтерна, был в нашей отечественной истории и такой орган), будущий оппозиционер из среды т.н. рыковской школы. Можно только догадываться, как распорядилась «документами специального характера» полномочная комиссия указанного состава… Да там только один Емельян Ярославский (Миней Губельман), лидер «Союза воинствующих безбожников» м глава Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б) (она же Комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства0) чего стоил…
Чем закончилось в итоге «академическое дело» (оно же «дело историков»)? А вот чем. В феврале 1931 года на имя И.В.Сталина ОГПУ подготовило докладную записку об окончании следствия по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» следующего содержания.
«Совершенно секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину
Следствие по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» – монархической организации, возглавлявшейся академиком С.Ф. Платоновым, закончено. Показаниями арестованных членов организации: Платонова, Тарле, Любавского, Лихачева, Рождественского, Бенешевича, Измайлова, Андреева и других установлено: организация ставила своей целью свержение советской власти при помощи вооруженного восстания и иностранной военной интервенции и установление конституционной монархии во главе с бывшим великим князем Андреем Владимировичем.
В основу программы организации легли следующие положения. «Будущая» Россия мыслилась как федерация отдельных государств, имеющих свои правительства, парламенты, свободу языка и культурного развития, но сплоченных в единое целое Всероссийским правительством, возглавляемое монархом. Такие автономные государства предполагались на Украине, Кавказе, в Сибири и на Дону. Лимитрофные государства должны были войти в федерацию. Самостоятельность признавалась лишь за Польшей и Финляндией. На первое время после переворота предполагалось установление военной диктатуры с генералом Лохвицким (видный белоэмигрантский деятель) в качестве диктатора.
В области народного образования предполагалось восстановление дореволюционных норм, как для высшей, так и средней школы. В области церковной политики предполагалось заключение унии католической и православной церквей. Организация ориентировалась на Германию, с которой предполагалось заключение тесного военно-политического и экономического союза.
Возникновение организации относится к 1925 г., окончательное оформление и укрепление – к 1928 г. За время своего существования организаций проведены следующие практические мероприятия:
1. Установлена тесная деловая связь с националистической партией Германии в лице ее лидеров – профессоров Отто Гетч, Отто и Ионас Шмидт. Одновременно установлена связь с немецкой фашистской организацией «Stahl Helm» (О. Гетч является одним из руководящих деятелей этой организации)71. Сношения с немецкими националистами поддерживались во время заграничных поездок Платонова, Тарле, Егорова и других членов организации. Немцы оказывали регулярную денежную помощь «Всенародному союзу» (около 5 тыс. рублей ежемесячно). Между руководителями «Всенародного союза борьбы» Платоновым, Тарле, Егоровым и другими представителями немецких монархических кругов неоднократно велись переговоры о военной интервенции Германии в СССР. По плану организации интервенция предполагалась не позже весны 1931 г. и должна была начаться высадкой десанта германских войск со стороны Балтийского моря с одновременным нападением на Ленинград и другие пункты СССР германского воздушного флота, база которого устраивалась в Финляндии. «Стальной шлем» обязывался выставить 15 тысяч вооруженных и обученных бойцов, которые должны были руководить действиями повстанческих отрядов.
2. По поручению организации академик Тарле неоднократно вел переговоры с отдельными общественными и политическими деятелями Франции с целью подготовки общественного мнения к интервенции. Целью переговоров Тарле было установление делового контакта с французскими государственными деятелями и получения от них согласия на германскую интервенцию в СССР.
3. Организацией было заключено соглашение с Ватиканом, который обязывался на основе создания унии католической и православной церквей вести антисоветскую пропаганду за границей и финансировать деятельность «Всенародного союза борьбы». Переговоры с Ватиканом вел профессор Бенешевич-канонист, член-корреспондент Всесоюзной Академии Наук и член Берлинской академии наук. Соглашение было утверждено папой Пием XI, с которым Бенешевич имел личное свидание в 1928 г. В исполнение своих обязательств Ватикан перевел «Союзу» 350 тыс. рублей и развил интенсивную антисоветскую деятельность за границей.
4. В деятельности «Всенародного союза» за рубежом принимали активное участие видные белоэмигрантские деятели (Коковцов, Маклаков, Струве, Лохвицкий и другие). Платонов по поручению «Всенародного союза» вел переговоры в 1928 г. в Берлине с бывшим великим князем Андреем Владимировичем, от которого он получил согласие на «восшествие на российский престол».
5. Платонов был тесно связан с немецким консулом в Ленинграде Цехлиным, который был в курсе деятельности организации. Платоновым регулярно передавались немцам отчеты в израсходовании полученных сумм. Отчеты сопровождались сообщением информационных сведений о внутреннем политическом положении СССР, о состоянии Красной армии и о деятельности Коминтерна. Руководитель военной группы организации Измайлов регулярно доставлял заграницу генералу Лохвицкому сведения о состоянии Красной армии. Руководящим центром организации было намечено будущее правительство во главе с академиком Платоновым и Коковцовым. «Всенародным союзом борьбы» была развернута энергичная деятельность внутри СССР: 1. Была создана военная группа организации, состоявшая из бывших офицеров (Измайлова, Петрова, Пузинского, Кованько и других), выработавшая конкретный план захвата Ленинграда и готовившая вооруженное восстание к началу интервенции. 2. Велась большая пропагандистская работа и работа по подготовке антимарксистских научных кадров, а также кадров будущих государственных деятелей. С этой целью была создана сеть кружков, находившихся под руководством отдельных членов организации. Эта сеть охватывала несколько сот научных работников в одном только Ленинграде. 3. Организацией велась работа по созданию центров «Всенародного союза» на периферии. В Москве существовал Московский центр, в состав которого входили академик М.К. Любавский и профессора: Д.И. Егоров (заместитель директора Публичной Библиотеки СССР имени Ленина), Готье и Бахрушин.
Одновременно с «Всенародным союзом» раскрыта и ликвидирована немецкая шпионская сеть, возглавлявшаяся ученым, сотрудником Академии Наук профессором Мервартом. Мерварт – старый немецкий шпион (с 1913 г.), состоял видным членом «Всенародного союза борьбы», являясь, по существу, эмиссаром немецкой разведки при руководящем центре этой организации и посредником между академиком Платоновым и немецким консулом в Ленинграде Цехлиным. Мерварт дал откровенные показания о своей роли во «Всенародном союзе», а также о своей шпионской сети, состоявшей преимущественно из инженеров и научных работников, служивших в различных учреждениях, занимавшихся, главным образом, изучением естественных производительных сил СССР.
Полагаем целесообразным дело «Всенародного союза» рассмотреть на судебном заседании Коллегии ОГПУ. Зам. председателя ОГПУ Ягода». (Источники: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922 – 1934 гг.). Т. 9. М. – 2013, стр. 458-460; Архив ФСБ РФ: Ф. 2. Оп. 9. Д. 513. Л. 1 – 4. Копия).
Итак, согласно документальным свидетельствам эта очень мощная и достаточно разветвленная промонархическая организация существовала в стране, начиная с 1925 года. Об этом же свидетельствует и содержание составленного 3-м отделением СО ОГПУ «Меморандума о ликвидации за последние два года наиболее серьезных контрреволюционных организаций», в котором говорилось: «В ряду таких контрреволюционных организаций, которые создавались при непосредственном участии интеллигенции или при ее прямом руководстве, обращают на себя особое внимание нижеследующие:
1. Группа вредительских организаций (Шахтинское дело, дело сотрудников НКПС, дело работников военной промышленности и целый ряд аналогичных по характеру более мелких организаций).
2. «Союз восстановления правопорядка и законности». Организация эта, раскрытая нами в Ленинграде в 1930 г., возглавлялась академиком Платоновым и таилась в недрах Академии наук. Возникла еще с 1927-28 гг. и была организована черносотенной профессурой совместно с активными деятелями германского «Стального Шлема» и германской разведки. Этими организациями «СВПЗ» и финансировался.
В задачу организации входило восстановление в СССР конституционной монархии во главе с бывшим князем Андреем в качестве монарха.
Свержение советской власти, по мысли руководителей «СВПЗ», возможно было при помощи интервенции, но лидеры «СВПЗ» считали, что к моменту вторжения иностранных войск в пределы СССР они смогут организовать восстание в Ленинграде и в других городах. «СВПЗ» пытался организовать свои филиалы в Москве, Одессе и Поволжских городах.
В Ленинграде «СВПЗ» имел ряд кружков из антисоветской молодежи, главным образом из детей бывших дворян. С этой молодежью велась систематическая работа. Из молодежи готовились кадры, которые должны были развивать дело «освобождения России». «СВПЗ» широко использовал для своей работы аппарат и авторитет Академии наук. В 1929 г. «СВПЗ» наметил правительство, которое должно было взять власть в свои руки после падения советского строя.
Кроме Германии, с которой предполагалось заключить военно-политический союз, «СВПЗ» пытался найти поддержку в реакционных кругах Франции и через Б.Н.Бенишевича связан был с Ватиканом. Из эмигрантских организаций «СВПЗ» был связан с Высшим Монархическим Советом.
Кроме того, через отдельных членов «СВПЗ» имел связи с крупными контрреволюционными организациями, которые ликвидированы были в Ленинграде в 1928-29 гг. – «Воскресение» и «Братство Серафима Саровского» (религиозно-монархические организации, в состав которых входили главным образом бывшие дворяне)».
Вполне резонно возникает вопрос: если СВПЗ, как и «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», был действительно связан с Высшим монархическим советом, имел свои многочисленные филиалы в Москве, Одессе и других городах СССР, то в каких отношениях он должен был находиться с легендированной стараниями ОГПУ «Монархической организацией Центральной России» (МОЦР) и ее полномочным эмиссаром в Минске, Киеве, Москве и Ленинграде В.В.Шульгиным в начале 1926 года? И были ли, в частности, попытки прояснить с его помощью таинственную историю появления «царского манифеста» в закрытом фонде Библиотеки Российской академии наук?
Чуть ранее я упоминал, что В.В.Шульгин, как ни странно это выглядит, к весьма специфической спецслужбистской деятельности имел самое прямое и непосредственное отношение. Причем это имело место зачастую с совершенно разных, порой достаточно неожиданных, сторон, и отмечалось в эпизодах, в которых Шульгин выступал в самом различном качестве – начиная от руководителя разведывательной сети белого движения на Юге России и заканчивая деятельностью в качестве завербованного агента французской, британской, польской и румынской разведок.
Сегодня, например, из художественной, научной и специальной литературы хорошо известно, что в 1921-1927 гг. чекистами проводилась масштабная оперативная игра, основной целью которой было выведение на советскую территорию с последующим арестом и физической ликвидацией ряда наиболее опасных руководителей контрреволюционных организаций. базирующихся на территориях некоторых европейских государств, в частности, Польши. Франции, Германии, Финляндии, Бельгии, Сербии, Болгарии и др. Некоторые исследователи разделяют эту игру на две ее основные составные части – под условными названиями «Операция «Трест» и «Операция «Синдикат-2». Но на самом деле у этой оперативной игры был и единый стратегический замысел, и однотипный характер легендирования проводимых в ходе игры операций, и практически один и тот же состав участников и исполнителей. Характерно, что подавляющее большинство сотрудников и агентов органов ГПУ-ОГПУ, задействованных в оперативной игре, были в последующем репрессированы именно как активные участники троцкистского подполья в СССР.
В официальной историографии Службы внешней разведки РФ операции «Трест» и «Синдикат-2» трактуются «как начало зарождения эпохи планомерной деятельности советской разведки за рубежом», хотя на деле их проведением занимались в основном органы советской контрразведки, а если быть совсем уж точным – военной контрразведки. Вначале это был Особый отдел ВЧК-ГПУ, руководимый лично Ф.Э.Дзержинским, а затем КРО ОО ГПУ-ОГПУ, возглавляемый А.Х.Артузовым (Фраучи). С точки зрения нынешней направленности деятельности основных структур отечественных специальных служб их вполне можно было бы отнести в внешней контрразведке, хотя основная часть работы именно по этому направлению обеспечивалась, прежде всего, через соответствующие специализированные структуры Исполкома Коминтерна (ИККИ).
По достаточно широко бытующей ныне версии, главным идеологом затеянной чекистами широкомасштабной оперативной игры стал генерал-лейтенант, бывший заместитель (товарищ) министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов Российской империи, бывший московский генерал-губернатор Владимир Федорович Джунковский (мой земляк, кстати, выходец из дворян Полтавской губернии). Тот самый, чей личный архив длительное время хранился в Пушкинском доме… Он резонно полагал, что розыск наиболее активных контрреволюционеров, особенно из числа их боевой, террористической части, является малоэффективным занятием, и поэтому предложил руководству ВЧК дезинформацию в качестве основного способа нейтрализации усилий противника. Основной смысл предложенной им схемы продвижения дезинформации заключался в создании продуманной и взаимосвязанной сетевой структуры «ложных целей» как в виде реально существующих, но полностью подконтрольных чекистам, так и вымышленных, вовсе не существующих в природе подпольных антисоветских организаций. Основной целью чекистских операций с участием легендированных подпольных организаций было: пресечение попыток совершения актов массового террора со стороны эмигрантских контрреволюционных организаций, дезинформирование спецслужб ряда зарубежных государств, отвлечение сил и средств эмигрантских кругов и стоящих за ними спецслужб на проведение самых различных контролируемых мероприятий специального характера.

