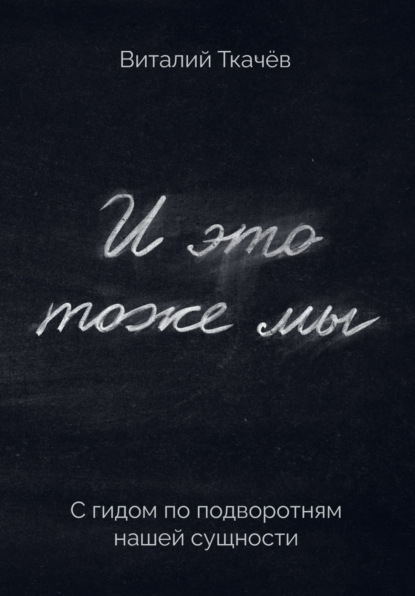
Полная версия:
И это тоже мы. С гидом по подворотням нашей сущности
– А что тогда было негативом?
– Дурость.
Это был апофеоз словесной англо-австрийской защиты Каро-Канн от охоты, хитрая и прожорливая добыча была неизбежно поймана, признала своё очевидное поражение и могла лишь скалиться да рычать, окончательно запутываясь в сетке.
– Хватит! – резко взмолилась снова застрявшая ещё в предыдущем ответе доктор и метнула в него со всей имевшейся силы свою бессильную неприязнь. – Скажите мне, наконец, лаконично, без всякой этой вашей неуместной демагогии: чем отличается лодка от рыбы?
– Вы серьёзно? Неожиданно. На этот вопрос разве можно ответить без демагогии, вы полагаете? – увернулся от броска Вениамин Ростиславович.
– Да, полагаю, уж постарайтесь, серьёзнее некуда.
– Насколько же у вас формализованное отношение к живым людям! К тому же ещё и берёте деньги за возможность прослушивать нафталиновые вопросы из тестов, придуманных непонятно откуда вылезшим безликим высшим разумом.
– Ну, это не вам судить.
– Войдите в разум!
– Чего… как это?
– Да поймите же, что это не нормально задавать подобные вопросы доктору…
– Вы – доктор?.. – она сделала себе инъекцию настороженного изумления и сразу застыла молчанием, будто растерявшаяся от вопроса первоклашка у доски.
– Наук, – решил сочувственно подсказать ей галантный Вениамин Ростиславович, поскольку сама она продолжала ещё, судя по всему, теряться в двусмысленности заданного вопроса.
Однако этого врача в диспансере, как, впрочем, и всех прочих докторов во всех других больнично-амбулаторных учреждениях, кроме медицины, никогда не интересовала никакая другая конкретная сфера деятельности мелькающих пациентов, если только он не дипломированный медик, будь ты хоть стоматолог, хоть педиатр, хоть гинеколог, хоть диетолог или даже по ведомству ухогорлоносов.
– Так, вы не врач, – то ли обрадовалась, то ли снизошла до навязчивого профана психиатр, – поэтому считаю свой вопрос абсолютно нормальным. Будете отвечать или как?
– Так уж и быть, сделаю милость, отвечу, но вы сами настояли на том, чтобы получить именно такой ответ, заметьте. Если угодно, то лодка – это вещь абсолютно несъедобная и бывает просмолённая деревянная, железная и иногда дырявая, а рыба, в свою очередь, как правило, съедобная и встречается с костями, нечищеная, в чешуе, а также в виде замороженного филе, штука довольно вкусная, если умело приготовленная. Вы умеете жарить рыбу? Это не всякому дано. У многих она получается абсолютно безвкусной. Вот если взять арабов, например, то они…
– Про арабов давайте потом, а про всё остальное вы это серьёзно?
– Серьёзнее некуда. А что вам, любезная, конкретно не понравилось: протекающая лодка или костлявая рыба? Например, ёрш – это очень и очень костлявая рыба, я, признаться, его тоже не люблю жареным, но уха из него получается просто замечательная. Его в воде, если не знаете, варят в марле, чтобы, разварившись, не расползался по кастрюле многочисленными костями. Я однажды на Крайнем Севере ловил рыбу неводом…
– Вот только от него сейчас избавьте, ладно? Так вы считаете вполне нормальным для доктора наук отвечать подобным образом на типовые тестовые вопросы?
– Считаю, что да. Вы принимаете ответ или желаете добавить, что лодка ещё бывает, я как раз вспомнил, резиновая, так как?
– Ответ-то, конечно, принимаю, но добавить к нему ничего не хочу, включая и справку в придачу. Выдать вам её не могу, не в моей, так сказать, служебной компетенции.
– Не затруднит, надеюсь, объяснить, разбрызгиваясь колючими словами, почему не в вашей? Не доучились до получения институтского диплома или ещё до школьного аттестата зрелости? – Вениамин Ростиславович непривычно для него дерзил уже в открытую, защищаясь от, как ему казалось, зарвавшейся капризной барышни, словно общающейся со своим провинившимся за опоздание на первое свидание кавалером без примирительно-оранжерейного букета благоухающих цветов, которым он, естественно, не был и не желал, как ни странно, им быть ни разу и ни в каком виде, но не достигая в этой защите конечной цели необоснованно оплаченного визита.
– Ну, знаете ли, это уж слишком, это переходит все возможные границы поведения, у меня нет больше ни желания, ни времени терпеть ваше хамство, а почему не выдала, об этом вам подробно и аргументированно расскажут на комиссии.
– Не царапайте меня своими комиссионными угрозами. На какой такой комиссии, рискну поинтересоваться, на контрольно-ревизионной?
– На той, на которую вас направляю. Пусть они решают, давать вам справку или нет. И это не острая угроза совсем, с чего вы взяли, а тупое руководство к действию. Запишитесь для начала в регистратуре на приём к участковому врачу. Это всё. Можете идти. До свидания.
– Если я правильно понял ваш последний, изъеденный прожорливым остроумием скукожившийся монолог, нужную мне справку я не получу у вас сегодня абсолютно ни при каких обстоятельствах, даже если, вопреки и назло всем стыдливым условностям и страху сфальшивить на соль диезе третьей октавы, спою сию же минуту божественным колоратурным сопрано, не говоря уж об использовании забытом ныне bel canto [42], арию «Caro nome» обманутой герцогом несчастной Джильды из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется», и второй раз её же на несмолкаемый «бис», но уже по вашей настойчивой просьбе [43]дискантом и забравшись, как в детстве, на стул, да?
– Да, правильно поняли, – безотчётно ответила доктор, но о понимании ею самой сказанного Вениамином Ростиславовичем, судя по накатившему на неё тяжёлому колесу служебного упрямства, речи быть уже не могло, никак не могло.
Это была, к слову, последняя его надежда – надежда на то, что разоблачённые неопровержимыми доказательствами психи не могут так демонстративно и интеллектуально ехидничать в отместку. А может, он ошибался? И именно они-то только так и могут. Однако ей, к сожалению (или к счастью?), было в тот момент уже не до чьих-то интеллектов и даже не до психов, не говоря уж о вполне нормальных, она, надув до максимальной степени тонкие губки, осерчала на него от обиды, которая стала «упруга, как мячик», и превратилась вдруг в маленькую, потерявшуюся в огромном центральном магазине девочку с любимой куклой в руках, при этом полностью игнорируя его умственно-причудливые вербальные завитушки и вызывая тем самым мучительное рождение в нём исполинского чувства разочарования в отношении её обмелевшей проницательности, к которой уже было бесполезно применять какие-либо ирригационные мероприятия. Псих он или нет, в данный момент это было уже не так важно. Она первой зачем-то попыталась поставить его на подготовленное, утрамбованное опытом место, но сама на это место прямёхонько встала практически без его особых на то обременительных усилий, а встав, сильно об него ударилась плашмя своей инерционностью.
Кто был охотник? – Кто – добыча?Всё дьявольски-наоборот!Обидно? Унизительно? Не по общепринятым правилам? Даже крайне неприятно и очень больно невиновному сознанию? Несомненно, именно так и случилось, но куда тогда со всеми этими вывихами и ушибами своего достоинства деваться, чтобы хоть как-то отплатить осмелевшему обидчику за разбалансированное самомнение, обнажение жирных, впитавшихся пятен недовоспитанности, кроме как стать своего рода Лексом Лютером в юбке длиною до симпатичных кругленьких коленочек и начать вредничать исключительно назло, изображая из себя эзотерического специалиста магической квалификации.
– У вас сегодня утром дома или по дороге на работу что-нибудь зловещее случилось, произошло что-то совсем непоправимое? Воду горячую отключили, каша подгорела, или контролёр оштрафовал в трамвае на последние деньги, или всё сразу, как? – участливо по инерции, но разочарованно своей несостоявшейся миссией поинтересовался Вениамин Ростиславович.
– Вы о чём?
– Я смотрю, вы настойчиво тащите меня «в свой больной, тёмный угол», хотите в моей истории получить роль первого плана, сыграв Немезиду или вообще некоего bete noire? Как-то неадекватно серьёзно реагируете на явную шутку, составленную из простых русских слов, имманентный смысл которых легко понять. Помните, как образно об этом сказал сочувствующий доброволец Замарашкин:[44]
Слова ведь мои не кости,Их можно легко прожевать.– Я вас больше не задерживаю. – Вникать в смысл последних слов и, тем более, помнить, скорее всего, неизвестного ей по жизни персонажа она уже не собиралась, опасливо загородившись заострённым в его сторону частоколом раздражения поруганной профессиональной и интеллектуальной репутации.
И это превосходно сработало. Вениамину Ростиславовичу чуть ли не впервые в жизни пришлось не солоно хлебавши ретироваться от обречённости, правда с присущим достоинством.
– Всё понял, к вам вопросов уже точно не имеется. Берегите себя, буду за вас переживать.
Но он ошибся с непривычно колоссальным отклонением градусов так на сто восемьдесят относительно координат выбранного субъекта, ибо переживать ему предстояло теперь исключительно за себя, и переживать, надо признать, основательно.
Глава третья
День второй
Накануне вечером Вениамину Ростиславовичу не удалось попасть по горячим следам или, вернее, в разгорячённом состоянии на приём к своему участковому психиатру, поскольку в тот день та уже, скорее всего, давно была дома, отработав в первую смену, и не подозревала, что в ней крайне нуждались в ту минуту, когда она, видимо, стояла у плиты и готовила ужин своему семейству, если, конечно, оно у неё было, или хотя бы мужу на диване в любимой вициновской одежде. Получилось записаться только на вторую половину следующего дня, пятницы. Вакантным оставался лишь сиротливый талон на последнее время, а именно на девятнадцать часов тридцать минут, который он, словно игнорируемый всеми одинокий помятый пакет молока на магазинной полке, с недовольным видом от безысходности и забрал в неожиданно ставшей неприветливой регистратуре. Ему было понятно, что после участкового, который, судя по всему, привычно даст направление на освидетельствование, опять следом сразу никак на него не успеть, и оно опять же автоматически перенесётся не просто на другой день – на другую неделю, так как по выходным диспансер не работает.
«Это ж сколько дней я потеряю впустую? – подумал раздражённо Вениамин Ростиславович. – Два, три, четыре, неделю? Занятия начнутся, а я ещё буду дурака валять, здесь ковыряться, а ведь ещё оформлять необходимые документы, подписывать контракт в отделе кадров, ждать приказа – на всё на это тоже время нужно, кошмар».
Но подлинный кошмар для него заключался далеко не в этом, не в возможной отсрочке начала чтения лекционного курса, а в том, что был категорически нарушен его привычный, хорошо отрегулированный modus vivendi [45]: ему предстояло переживать целые сутки, пока он не явит себя пред строгим ликом врача, добровольно не вручит свою заподозренную в ненормальности нормальность в его участковые руки и не начнётся хоть как-то проясняться взбаламученная мутным решением ситуация. Он уже был заведён, как старый пружинный будильник, готовый, не дожидаясь установленного времени, разразиться на всю округу оглушительным звоном негодования и возмущения. Однако ему придётся сдерживать свой завод в полном неведении относительно перспектив случившегося без малого двадцать четыре часа. Вот это и есть настоящий кошмар, грозящий превратиться в физическую муку, которую не заглушишь даже сильнодействующими болеутоляющими пилюлями.
…С неизвестнымЯ останусь с глазу на глаз.Весь день он не находил себе уютного места, причём нигде, тем более внутри себя. Ещё бы, а как он хотел после такого обнажённого откровения в отношении своей щепетильно-застенчивой личности. Ему в этой связи лезла в голову всякая несусветица, вдруг вспомнилась строка из стихотворения одного странного поэта со своеобразным ощущением самого себя, которую его мозг избрал рефреном на ближайшие несколько часов, будто соглашаясь с приведённым сравнением:
Я чувствую себя как окурок не в своей пепельнице.Он, надо признать, пытался всё-таки вытряхнуть содержимое из специфической ёмкости, чтобы избавиться от подобного ощущения, однако, как ни старался, ничего не получалось. Докуренный бычок памяти заупрямился и сильно упёрся, изображая из себя тонкого ценителя табачной поэзии.
В упомянутый день Вениамин Ростиславович встал с постели намного позже обычного, резонно предполагая, что придётся как-то убивать время до вечера. Никогда с этим не было никаких проблем, он всегда знал, как себя занять, когда выпадала возможность свободно распорядиться образовавшейся паузой в работе. Он, как и незабвенный, «живее всех живых» Владимир Ильич, занимал её другой работой, поскольку, являясь многогранной личностью то ли от Бога, то ли благодаря своим блистательным родителям, много добившихся в деле обеспечения обороноспособности страны, то ли от собственного самовоспитания и качественного университетского образования, обладал целым набором талантов и умений. Но как раз в этот день таланты проявлять не хотелось совсем, не спасало никакое множество вариантов для деятельности. Дело было далеко не в её видах и количестве – сама деятельность не привлекала, отгораживаясь высоким и пугающим лесом несвойственной для него лени или, что было ещё более непривычно, мрачной апатии. Лень, которая, возможно, была ипостасью апатии, бессовестно и безжалостно провоцировалась, подначивалась, науськивалась полной неизвестностью, абсолютной неопределённостью.
Писать что-то умное было невозможно, ибо ничего похожего на умное в черепную коробку не вкладывалось, кроме глупого солипсического самоедства-самопознания, которое не было в состоянии лечь на бумагу, даже если бы очень захотело, оно не знало грамоты, его никто не утрудился обучить. Правда, Николаю Васильевичу однажды в далёких 1840‐х годах удалось заставить его аж в тридцати одном письме пролиться откровенностью, но Вениамин Ростиславович как сочинитель не был столь убедительно-златоустным, чтобы уговорить его сделать это во второй раз. Читать тоже было делом затруднительным, поскольку на каждой странице он видел только один и тот же текст – его вчерашний диалог с психиатром, который ничем не заканчивался на открытой странице, а когда он её перелистывал на другую, следующую, чтобы узнать о дальнейших событиях, его встречал там снова всё тот же диалог с самого начала. И сколько бы он ни переворачивал страниц, на каждой новой было одно и то же – разговор с врачом. Он даже попытался поменять монографию на приключенческий роман, но итог был аналогичным: что ни страница – то диалог, диалог, диалог… и снова диалог, как будто все авантюристы и искатели приключений были озабочены его словесной перепалкой. Переводить с иностранного на русский, чем он часто занимался ради дополнительного заработка или подготовки фактического материала для собственных статей или лекций, он не мог по определению, потому что упорно начинал переводить в обратную сторону, и не иноземный текст, а всё тот же вчерашний разговор. Сочинять стихи, а это, надо признать, у него неплохо получалось по отзывам знатоков, в такой ситуации было вообще бессмысленным занятием. Два его сборника уже хранились в фондах многих отечественных библиотек, но в сию секунду мозг словно специально рождал только обидные для него рифмы: «диалог – идиот», «врачиха – психа», «диспансер – офонарел» и тому подобные декадентские или символистические украшения. Его организм отвергал любое шевеление извилинами, да к тому же в такой извращённой форме.
Ещё можно было попытаться обратиться за помощью к физическому шевелению руками или ногами, например помыть посуду, убраться в квартире, поменять перегоревшие лампочки, поднять гири и подвести стрелки отстающих напольных курантов в гостиной, сходить в магазин за хлебом, подсолнечным маслом и сметаной, вскопать заросший за лето огород. Физические упражнения могли бы дать облегчение, но, во‐первых, их выполнять не хотелось категорически примерно так же, как и умственные, а во‐вторых, они уже были полностью сделаны ещё два дня назад и накануне утром либо женой, либо им самим. Если бы он, конечно, знал, что так неблагополучно сложится тривиальная поездка за стандартной справкой, то, вне всякого сомнения, оставил бы все работы на текущий день. Исключение составлял подзабытый огород, туда, конечно, можно было огромной силой воли принудить себя пойти с лопатой, загвоздка была лишь в том, что огорода под рукой не было, да его у Вениамина Ростиславовича не было совсем по причине отсутствия дачи. Можно было бы напроситься на огород соседей по лестничной клетке или родителей жены, но на дворе была осень, и подобное несезонное рвение никому не требовалось.
Всё дано мне в преизбытке, —Утомление труда,Ожиданий злые пытки…Мучаясь ожиданием безрадостного рандеву, Вениамин Ростиславович решил выехать к врачу пораньше, скажем часов в пять, и не торопиться в дороге, идти непривычным размеренным шагом, не впрыгивать в вагон метро при закрывающейся двери, не бежать, как советует подземный голос, по эскалатору. Там, глядишь, растворятся в мелочах лишние как минимум полчаса. Но минутная стрелка крутилась медленно, и часовая тоже трудилась никуда не спеша. А зачем им надрываться, у них свой устоявшийся график: шестьдесят секунд – минута, шестьдесят минут – час. «Времени вечен и точен бег…» За рекордное прохождение круга олимпийской медали не дадут, да и сверхурочные им никто не оплатит. Однако что значили какие-то полчаса, когда до выхода оставалось ещё четыре полных часа. Их как растворишь и в чём?
Вениамин Ростиславович лежал на диване и застывшим взглядом смотрел на куранты, которые нехотя делали свою однообразную работу, отстукивая каждое своё равномерное действие. Он им даже слегка позавидовал: они прекрасно знали, что делать в каждый момент и как, не суетясь, монотонно убивать время. Он лежал и думал о том, что никогда в жизни до этого не скучал и не мучился от безделья. Он вообще не понимал, что это такое, какова их природа и ощущения. Ему всегда катастрофически не хватало времени на что-то. А тут полно времени и дел, а он ничего не делает. Он даже когда-то телевизор перестал смотреть, не знал ни единой передачи, ни одного популярного лица ведущих. Сейчас впору было бы его включить и тупо наблюдать за меняющимся изображением. Вот только самого телевизора как предмета, как интерьера квартиры у него не было уже лет пятнадцать. Двадцать лет назад он его перестал принципиально смотреть, кстати, совсем не из-за большой загруженности, а из-за одного случая, который наглядно убедил его в лживости и формализме демонстрируемых зрителям передач.
В Советском Союзе и в первое десятилетие новой власти в глубоко обгрызенной России он являлся единственным специалистом по одному из важнейших азиатских регионов. Это подкреплялось его научными исследованиями, воплотившимися в учёные степени и звания. Он был признанным и абсолютно недостижимым в этой области авторитетом, но авторитетом академическим, замкнутым на своих интересах, не не умеющим, а скорее не желающим себя продвигать, рекламировать и кричать повсюду с любой вспученной гордыней возвышенности о своей невероятной исключительности. В советское время его достойно ценили и наглядно уважали за уникальные профессиональные знания: советовались, привлекали, прислушивались. Затем интерес градусов к нему по Цельсию и даже по Фаренгейту почти упал до нуля у всплывших на поверхность новых официальных лиц. Его уникальные знания никуда не делись, но почему-то почти в одночасье перестали требоваться, куда-то пропала его постоянная востребованность. Можно было подумать, что с новой властью автоматически приходит целый сонм признанных научных авторитетов. Он на это не обращал внимания, это его даже в какой-то степени радовало, поскольку не дёргали, не отвлекали от работы за письменным столом дома или в читальном зале и спецхране научной библиотеки. Такое внезапное затишье в интересе к нему позволило Вениамину Ростиславовичу широким ковшом трудолюбия углубить и без того глубокие познания, освоить новые смежные области в науке и выйти на почти идеальный, иными словами, недостижимый для большинства коллег профессиональный уровень.
Именно в этот момент в одном из регионов мира, которым он профессионально занимался уже не одно десятилетие, должно было произойти и неизбежно в установленное время произошло судьбоносное событие по своей уникальности и влиянию на будущие политические, исторические и социально-экономические процессы не только в данном районе, но и во всём мире. Вполне естественно, что центральное телевидение не могло пройти мимо подобного горячего новостного прецедента и сделало ряд передач, посвящённых природе и анализу этого мирового события. В течение месяца эта актуальная тема не переставала присутствовать в телевизионном пространстве, в том числе в виде приглашения соответствующих специалистов на разного рода столы, интервью, беседы, дискуссии. Каково было удивление Вениамина Ростиславовича, когда пригласили узнать мнение всех кого ни попадя, кроме него самого – единственного в то время человека в стране, который знал ответы на все без исключения вопросы по данному региону. Он смотрел на бесстыжий экран и поражался тому, как остепенённые люди приличного и умного вида объясняли вещи, в которых абсолютно не разбирались. Он всех или почти всех знал лично, знал область их интересов, которая никоим образом не пересекалась с интересующей областью. Никто из них его даже не упомянул, хотя многие невольно или сознательно, но откровенно по-пиратски цитировали его многочисленные работы и повторяли его выводы. Он увидел профанацию профессионализма и деградацию уровня нравственных знаний, что выдавалось за безусловное экспертное мнение. Абсолютно непосвящённая аудитория слушала ахинею «экспертов» и воспринимала её позитивно, наверняка как открывшуюся вдруг по воли Божьей евангельскую истину.
Вениамин Ростиславович, прослушав этот месячный, полностью законченный абсурд, неожиданно для себя тоже понял истину, врождённую суть телевидения: главное не правда, не её артикуляция по обе стороны стола, главное, чтобы каждый получил свой причитающийся ему гонорар – журналист за имитацию темы передачи, участники за имитацию её раскрытия. Один якобы интересуется, другие якобы обсуждают. Он специалист и видит практически нулевой уровень и искажение информации в конкретной тематической передаче, но другие, непрофессиональные люди этого видеть не могут, поскольку дилетанты, то есть не специалисты в данном случае. Но во всех других эпизодах дилетантом уже являлся он сам, когда досконально не знал обсуждаемый очередными «специалистами» всё с тем же умным видом предмет, значит, ему осознанно врали весь день напролёт беспрерывного и почти бесплатного вещания из телевизионной точки. Целые сутки театрального притворства, постановочного одурачивания, надувания щёк. Это же всё-таки не намеренно гротескный и аляповато-костюмированный glam rock [46]. В этот момент лучезарного прозрения и мрачного разочарования в одно и то же время он и выключил свой насквозь пропитанный ложью, как солёный огурец рассолом, телевизор навсегда. Спустя несколько лет, когда переезжал на новую квартиру, он отдал его пожилой и бездетной консьержке в своём подъезде, а новый покупать за ненадобностью уже не стал. С тех пор единственной темой разговора, которую он не мог должным образом поддержать в компании, белым пятном его эрудиции явилась телевизионная, посвящённая происходящему на когда-то милом голубом экране.
За подобными мыслями Вениамин Ростиславович незаметно для самого себя задремал, «сердце уронив в былое», а когда внезапно испуганно и одновременно недоумённо проснулся, время как раз крикливо-услужливо указывало на непрогуливаемую самовольно необходимость отправляться в диспансер. Всего лишь через пару часов он сидел, ёрзая от волнения на стуле и раскачиваясь всем телом из стороны в сторону, будто китайский болванчик, перед глазастой участковой по психам, вернее, перед той, кто приступит, как ему казалось, безотлагательно к возвращению на место неожиданно соскочивших пантографов с предписанного проводами маршрута его обесточенной судьбы.
– Слушаю вас, на что жалуетесь? – привычно спросила прижившаяся в кабинете жрица, подозрительно наблюдая исподлобья за монотонными движениями восточного сувенира.
Вениамин Ростиславович усилием воли остановил разошедшегося болванчика, ясно осознавая, что тот его неуместно компрометирует.
– Не на что, я бы сказал, а на кого.
– Это как? И на кого же? – было видно, что участковая дама много старше средних безжалостных лет, но с довольно приятным выражением лица участливо заинтересовалась неопределённостью ответа.
Вениамин Ростиславович не стал в данном случае доигрывать сценический эпизод и поспешил внести ясность, не затягивая потенциальную интригу:

