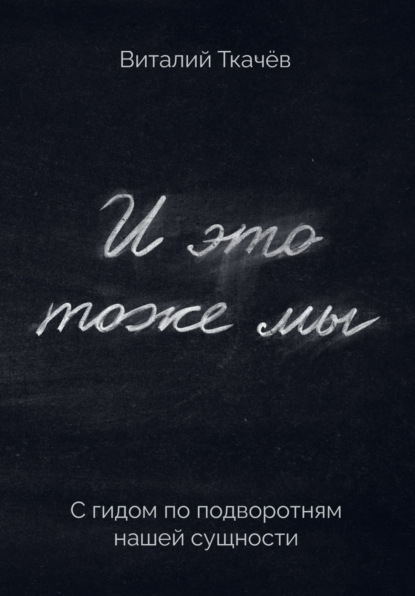
Полная версия:
И это тоже мы. С гидом по подворотням нашей сущности
Как-то, когда ему было лет тринадцать, он в очередной раз поехал в пионерский лагерь от маминой работы на последнюю летнюю смену. В его отряде оказалась худенькая, маленькая, но очень привлекательно-изящная девочка, которая, будучи сама с жгуче-чёрными, до удивительности вьющимися волосами («как тучи, локоны чернеют») и мерцающими тёмно-карими глазами («звездой блестят её глаза»), начала тянуться к похожему на неё по яркости блеска, но отличающемуся по физической силе мальчику, который притягивал её, как магнит, как воду омут. Но Веня был увлечён насыщенной спортивной лагерной жизнью, а в свободные часы уединялся с интересной и познавательной книгой и не замечал симпатию поражённой девочки. Она испробовала все возможные средства из своего ещё крайне скудного женского арсенала, чтобы обратить на себя внимание, но она не могла играть с ним в футбол или баскетбол, участвовать в соревнованиях по бегу, прыжкам в длину и высоту, не решалась мешать ему за отрешённым чтением. Можно было подойти смело на танцах, и она бы это сделала, не сомневаясь, но на них Веня никогда не ходил, предпочитая одинокое чтение в мальчишечьей палате. Ей оставалось только лишь при каждом возможном случае во время общеотрядных или общелагерных культурно-массовых мероприятий пожирать его своими пристально-пленительными взглядами, однако, пожирая его, юница сама истаивала совершенно от своего собственного жара, о существование которого Веня даже не подозревал. И видимо, совсем уж от отчаяния, ничего не придумав иного из-за отсутствия поддержки незрелого прошлого, окончательно заплутав в своём ещё нехоженом чувстве, она однажды начала по-детски бросаться в него щебёнкой, которой были выложены дорожки в лагере. Бросала и попадала. Он терпел и не реагировал, тогда она брала камни уже побольше и кидала сильнее. Попадала, он снова терпел и снова не реагировал, она выбирала уже самые большие камни и кидала своей тоненькой слабенькой ручкой со всей возможной силы беспомощной обиды.
Не обижайся, я ж любяКидал кирпичики в тебя.Ему стало на самом деле довольно больно (если кто не верит, пусть испытает себя на практических занятиях!), и он обратил, наконец-то, на дерзкую девочку самое пристальное внимание, подняв на неё свои полные страдания от боли и сверкающие от непонимания чёрные глаза без малейшего негодования. Он сразил её ими, как говорится, намертво, больше ничем, только ими, просто взял и посмотрел так пронзительно и вопросительно-выразительно. Она его не развернула к себе этими меткими метаниями камней, нет, это он приструнил в ней полностью, вернее, укротил её же собственным точным попаданием необузданную волю высокогорных девственных лугов, она ухватилась за его взгляд, словно юная цирковая акробатка от страха высоты за страховку, прилипла – не отлипнешь, растворилась в его глазах, словно журчащий ручеёк, с разбега оказавшийся в разъярённом состоянии моря, стала его верным фанатом, восторженным зрителем, внимающим слушателем, преданным оруженосцем (ракеток, мячей, воланов, шариков, книг), бесстрашной защитницей (от комаров, мух, ос), ревнивой львицей, гипотетически готовой растерзать любого, кто осмелится потревожить его сосредоточенность или тишину чтения. Она стала его послушным хвостиком в течение всего дня и всех оставшихся дней смены, её сердце было полностью «absorbed in sweet devotion». Что-то внутри у неё, взращённое природными соками мечтательного чувства, впервые и безвозвратно вдруг изменилось и зажило разгорающимся сладостно-пленяющим, неземным восторгом. Вспомнили себя в этом весеннем возрасте, страдающими до смерти из-за целомудренной, но прожигающей до дыр от этого душу и тело любви?[33]
Ах, суждено, чтоб ты узналаЛюбовь и смерть в тринадцать лет.Когда же смена закончилась и надо было разъезжаться по домам, чтобы готовиться к школе, она устроила настоящую истерику своим родителям, не желая расставаться с Веней. Вот уж поистине: «Facilius in amore finem impetres quam modum». Эта хрупкая, словно тончайшая тростиночка, девочка в прямом смысле по-звериному в него вцепилась своими миниатюрными ноготками и наотрез отказывалась отпускать то, что принадлежало ей, как она полагала, то, что так неожиданно пробило меткой амурной стрелой её трепетное сердце и пылало в её душе, пока родители не оторвали её и силой не увели, брыкающуюся и рыдающую (когда не [34]«una furtiva lagrima» увлажняет сухую почву сердечного глаза, но целый весенний разлив солёной реки) в лихорадочном исступленье, оставив руки Вени с глубоко расцарапанными ранками её первой невинной любви, которую она, [35]«очнувшись женщиной», радостно обрела, но лишь для того, чтобы тут же навсегда горько потерять. Он ничего не делал с людьми, он на них просто смотрел прямо и гордо подняв голову. Это были беспредельно-глубокие глаза неординарного, уверенного и невероятно умного человека. Уже в тринадцать лет.
А его речь? Это вообще было особенное качество. Им можно было пренебречь, его можно было не замечать, только пока он не открывал рот. В школьных и институтских компаниях он сидел всегда скромно в углу, у стенки, и оттуда спокойно наблюдал за происходящим. Никто его не видел в упор. Но вот наступал момент, когда требовалось его квалифицированное мнение. Он начинал говорить, его слово одушевляло предметы, спящих пробуждало, равнодушных одаривало интересом, атмосфера преображалась, происходила метаморфоза. Угол как-то сам собой расправлялся и становился подиумом. Из невидимки он превращался в центр Вселенной, его слушали отрыв рот, как проповедника на амвоне, как Мессию на горе. Это была правильная литературная речь умного, начитанного, образованного человека. При этом он говорил простыми и доходчивыми словами о самых сложных вещах. Он ни капли не разбирался в математике и почти в естественных науках, если не считать фундаментальные законы естествознания. На выпускных экзаменах в средней школе по физике он поверг в ужас учителей своим первым предложением ответа на билет: «Все тела состоят из кристаллов». Хорошо, что к тому времени они уже знали, с кем имеют дело, и понимали природу подобных изречений. Они ясно осознавали, что растёт личность, поскольку много слышали от коллег, как по многим другим предметам он заменял учителей, которые нередко садились на задней парте и вместе с одноклассниками заслушивались рассказами по программным темам, только много глубже и шире. Некоторые преподаватели, надо признать, в его присутствии откровенно побаивались вести уроки из-за их примитивности. Он уже в школе, благодаря начитанности и врождённой грамотности, великолепно знал русский язык и поправлял ошибки учителей, знал, конечно со скидкой на его невеликий возраст, прекрасно мировую и отечественную литературу, историю, географию, философию, почти в совершенстве владел немецким языком и читал в подлиннике многих известных немецкоязычных авторов: Гёте, Гейне, Шиллера, Лессинга, Гессе, Фрейда, Юнга. (В школе?! Откровенно говоря, верится с трудом, но есть живые свидетели, которые с этим сталкивались воочию.) Он находил их книги в букинистических магазинах иностранной литературы и просил родителей купить эти отнюдь не дешёвые издания. Такого мальчика в школе не было до и не было и не будет после.
В то же время его совсем нельзя было назвать гением, он им и не был вовсе, и никакой гипотезы Пуанкаре он не мог доказать, как бы ни старался просидеть штаны в попытках найти на антресолях мозга хоть какие-то запрятанные варианты, он так толком и не понял, например, принципа периодической системы гения Дмитрия Ивановича, но, несмотря на это, в нём однозначно таилось «семя идеала», присутствовала какая-то неугасимая искра Божья, искра гуманитарная, дар мыслителя. У него был невероятно пытливый и светлый ум от природы, помноженный на завидное с отрочества усердие, которое не позволяло бесцельно транжирить, как некоторые понапрасну тратят деньги, текущие дни. Он был Шерлоком Холмсом, но только наоборот. Его «чердак» вмещал не практические знания, необходимые для расследования преступлений, как у великого сыщика, а исключительно богатство гуманитарных наук, и они также хранились в полном порядке: каждое на своём месте. Обладая широчайшей эрудицией в избранной области знаний, он умел выстраивать логические цепочки и видеть задолго до конца, чем закончится дело. Это была логика – это не было предсказаниями туманного астролога или мистического экстрасенса.
Примерно так же обстояло дело и в институте. Как-то на лекции по новейшей истории Франции, курс которой был приглашён читать учёный с мировым именем, зашёл разговор о том, кто из кандидатов победит на предстоящих тогда президентских выборах.
– Готов поспорить с любым из вас на бутылку коньяка, что на выборах однозначно победит действующий президент Валери Жискар д’Эстен, – весьма уверенно, но довольно опрометчиво предложил пари лучший в стране специалист по Франции.
Веня – единственный из почти ста студентов в поточной аудитории – встал, к изумлению своих товарищей, а также, видимо, даже самоуверенного преподавателя, и сказал:
– Готов принять ваш вызов. Да, вы правы, лидер правоцентристов Валери Жискар д’Эстен победит, но только в первом туре, а во втором туре он проиграет, и победа достанется его сопернику, а именно представителю оппозиционной социалистической партии Франсуа Миттерану.
Следом он, обозначив сырые места в построении учёного, развернул минут на десять свиток очень логичных и обстоятельных аргументаций, заполнив собой окончание лекции. Студенты и профессор не проронили ни звука, когда он говорил.
Только в конце именитый учёный лишь непритязательно промолвил:
– Посмотрим, юноша, посмотрим. Как вас, кстати, зовут?
– Вениамин.
– А где вы возьмёте коньяк, Вениамин. Я люблю, к слову, «Наполеон» от Курвуазье.
– Посмотрим, профессор, посмотрим. Что касается меня, то коньяк не пью, но друзья, тут вот говорят, любят, поэтому будут рад любому.
На этом лекция и закончилась. А через два месяца, в мае, президентом по итогам голосования во втором туре стал, конечно же, Франсуа Миттеран. Барабанная дробь, литавры, восторг изумлённых… То, что на курсе случился шок, не сказать ровным счётом ничего, и это понятно, поскольку далеко не все знали об уникальных способностях тогдашнего Вени. Как мог какой-то студент третьего курса выиграть пари у маститого специалиста, который, как все знали, консультировал по французским вопросам снобистский МИД и самый умный в мире аппарат ЦК КПСС, да ещё на ристалище, где ему не было равных. Загудел курс, следом загудел институт, включая признанный профессорско-преподавательский состав. Особенно всех интересовал вопрос, как будет проигравший профессор отдавать долг и принимать экзамен у недоученного студента, не вставшего ещё практически на ноги, но заткнувшего за пояс своими знаниями этого самого преподавателя на его же профессионально-избранном поле. Итог разочаровал всех. Профессор отказался принимать в группе Вени экзамены в том смысле, что он на них просто не пришёл, сославшись, конечно же, как всегда бывает у успешных, на занятость, коньяк никакой марки не отдал и вообще, пока Веня учился, в институте не преподавал, по крайней мере, его там больше никто не видел. И это произошло при нескольких десятках свидетелей. Вот и ответ на психологическую проблему, возникающую у проигравших в интеллектуальном споре заведомых фаворитов: «Смиряются ль кичливые умы?» Оказывается, нет, не смиряются, а мгновенно целиком растворяются в пространственном мире, сбегая туда, где они вечно-назначенные знатоки.
Кстати, экзамен принимал какой-то другой, но молодой институтский преподаватель и Веню спрашивать не стал, поставив ему, не заморачиваясь и не связываясь, автоматом отлично. А как он ещё мог поступить и что поставить после всего этого?
Коньяк тогда Веня не получил, но получил огромную популярность и уважение у всего института. Событие это не прошло бесследно. Когда его курс оканчивал институт, то ему единственному из всех была предложена по тем временам самая престижная и перспективная очная целевая аспирантура, хотя достойных людей и людей, имеющих лучшие в сравнении с Веней оценки, хватало и без него. Но всем им не хватало его проникновенного, острого, дотошного и аналитического ума. Ум ведь нельзя оценить баллами, он бесценен. Порой кажется, что человек умён, но, когда в помещение входил Веня, ум других сразу начинал маскироваться за оценки и цвет диплома. Неординарные задачи решают неординарные умы, с помощью оценок и корок дипломов решают задачки из школьных или институтских учебников. Космос покоряют сумасшедшие гении, а не нормальные отличники. Помните из детской классики: «Я не считаю себя глупее других, но всегда, когда я имею дело с Шерлоком Холмсом, меня угнетает тяжёлое сознание собственной тупости». И это сказано о человеке, который даже не знал, что Земля вращается вокруг Солнца! Наверное, до сих пор в стенах института ходят и ещё долго будут ходить байки про Веню и специалиста с мировым именем. Почему? Потому что повторить подобное не под силу никому из студентов, которым, однако, удивительно приятно отождествлять себя с одной с ним alma mater [36]. Байки поддерживают и многие преподаватели, из-за чувства раскачавшейся гордости, что учили его лично. Веня стал легендой без всякого напряжённого героизма или изнывающего от долголетия рабочего стажа, ничего не делая, только благодаря интеллекту.
Можно сказать, что он умел в хорошем смысле слова манипулировать людьми для достижения цели, но цели не личной, корыстно-карьерной, а деловой, идеальной для благородных и полезных обществу свершений. Странный был человек, что и говорить, при таких-то полезных способностях. Ещё в старших классах школы он начал интересоваться психологией, особенно практической. Перечитал массу соответствующей литературы, уразумел её и сначала в виде развлечения стал применять полученные знания на практике, там, где было возможно в его положении. В итоге он достиг исчерпывающе определённого в словарях совершенства. Например, далеко не будучи Жюльеном Сорелем внешне, а только обладая, скромно говоря, не меньшим, чем у француза, умом и настойчивостью, он успешно знакомился и назначал свидания (всегда с продолжением!) с самыми красивыми и по виду недоступными девушками прямо на улице или в общественном транспорте без всякого повода, только за счёт правильного понимания женского типажа и наличия разносторонних знаний, позволяющих моментально начинать увлечённо говорить на необходимые темы, интересные собеседникам. Он входил с видом завсегдатая или своего без пропуска туда, куда простых смертных не пускала даже на порог строгая и ревнивая охрана, скажем в международный («хаммеровский») торговый центр на Красной Пресне, и заводил знакомства с расслабляющимися там представителями тогдашней золотой молодёжи, легко выдавая себя за одного из бонвиванов. Для него это стало игрой, от которой он получал адреналин. Он дошёл в этом до того, что даже на одном из устных вступительных экзаменов в институт позволил себе импровизацию в виде психологического этюда именно ради острого ощущения, притворившись перед экзаменаторами незнающим ответы на вопросы в билете. Тем не менее он уговорил, заболтал их поставить ему оценку «пять». И это был реальный апофеоз его возможностей. Те, кто сдавали в своё время устные вступительные экзамены, несомненно, по достоинству, со знанием дела оценят риски подобных изысков.
Затем он, когда вышел из учебных заведений и вошёл в жизнь, уже на профессиональном уровне стал пользоваться своими знаниями и навыками в области психологии в работе. С ним невозможно было спорить, он умел моментально находить слабые стороны у оппонента и прекрасно обращать их на пользу своей стороны. Он умел договариваться практически со всеми и практически по всем вопросам, требующим решения. Он превратился в незаменимого и уникального переговорщика. Ему хватало от пяти до десяти минут наблюдения и беседы ни о чём, чтобы понять своего визави, которого он вообще в первый раз видел, чтобы выстроить безошибочную линию поведения и манеру общения. Он чувствовал себя всесильным настолько, что мог позволить себе подключаться тогда, когда ситуация заходила в тупик по вине чванливого и заносчивого руководителя, и выводить её из лабиринта тупости, будучи словно нитью Ариадны, по одному ему доступному способу, достигая желаемого результата исключительно за счёт правильно подобранных слов, выявления интересов, умения держать паузу. Встречали ли вы подчинённого, к которому в кабинет руководители бегали сами со своими просьбами, они даже не осмеливались называть это заданиями, не говоря уж приказами? Это смешно и нелепо, но он принимал их по живой очереди. Не верите? Спросите сами у его коллег или бывших начальников, которые, правда, значительно задвинулись вверх и вряд ли пойдут на откровенный контакт, не солидно им теперь это вспоминать, если что.
Уже зайдя довольно далеко в густую жизнь, Веня защитил две диссертации, получил в итоге степень доктора, звание профессора, написал с десяток заумных и столько же не очень книг, сам в свою очередь начал консультировать униженный этим МИД по ряду сложных вопросов международных отношений, стал Вениамином Ростиславовичем, известным специалистом, желанным гостем многих международных симпозиумов, свободно владел, как достойный продолжатель дворянского воспитания и традиций дореволюционной интеллигенции, тремя иностранными языками, в том числе одним восточным.
Об этом уникальном человеке уже рассказано много, и кто-то наверняка, даже ни малейшего повода нет сомневаться в этом нисколько, придирчиво утомился, фыркнул с досады на прочитанное и потянулся сладко спать. Засыпайте, засыпайте, добрых снов вам, но на следующий день, выспавшись, обязательно возвращайтесь к Вениамину Ростиславовичу. С чего бы это, спросите? Да просто потому, что столько ещё о нём не рассказано, наберитесь терпения – и удивитесь. «…Он оставил внизу все вершины, достигаемые людьми». О его жизни можно написать целую книгу, ибо он, как когда-то считала Марина Ивановна об Елене Оттобальдовне, этой увесистой книгой и являлся, «целым настоящим Bilderbuch’ом» для поучения о жизни.[37]
Около пятнадцати лет он проработал на хлопотном и ответственном посту в российском посольстве в одной из азиатских стран, внёс огромный вклад в развитие двусторонних отношений. Благодаря своим знаниям, навыкам и человеческим качествам пользовался настолько большим доверием соответствующего иностранного руководства, что с ним советовались как со своим экспертом перед тем, как выступать с какими-либо дипломатическими инициативами или приступать к решению назревших межнациональных задач. Такого практически никогда не было в истории мировой дипломатии (может быть, за редким исключением – как допустимая возможность, ибо никаких задокументированных случаев в архивах нет), чтобы одна страна в своих практических действиях в отношениях с какой-то другой иноязычной страной руководствовалась подсказками представителя этой самой второй страны. Доверие было полным, и Вениамин Ростиславович никогда его не обманывал. Ни разу его советы не привели к ущербу той стране, в которой он работал, и той, которую он представлял.
Однако не бывает долгой дороги без единого ухаба или случайного гвоздя, рано или поздно они тебя ловко найдут, и ты непременно на них наступишь или наедешь. И это, как по заказу, получило своё подтверждение и в работе за границей. Однажды случился крайне прискорбный эпизод во взаимоотношениях двух стран, который изменил во многом плавно текущую расчисленную трудовую жизнь и настроение Вениамина Ростиславовича. Ведомственное руководство одного из значимых министерств страны пребывания, желая заполучить некие значительные преференции в виде безвозмездной передачи уникальной технологии, обвинило противоположную сторону в одностороннем нарушении действующего соглашения, незамедлительно представив все необходимые «оригинальные» документы, подтверждающие претензии. Правдоподобные с первого взгляда бумажки на фирменных бланках уважаемых местных предприятий, с печатями и чрезмерным обилием подписей убедили, как ни странно, всех – с выдвинутыми претензиями согласились по обе стороны границы, включая, естественно, и высокое руководство Вениамина Ростиславовича, которое готово было опрометчиво пойти на значительные уступки для мнимого сохранения дружеских отношений между двумя государствами и предоставить требуемые преференции на сотни миллионов долларов США. Бумажки не убедили своими доказательствами только Вениамина Ростиславовича, который однозначно определил их «липовый» характер, поэтому лишь он один не согласился с такой постановкой вопроса и не побоялся выступить против подобного шага. Он считал дипломатию не вышиванием гладью, да ещё и по шёлку, а исключительно отстаиванием, пусть жёстко и со скрежетом формулировок, собственных интересов, чтобы не было соблазна в будущем неуважительно относиться к его стране и повторять применение жульнических схем. Чем ему только возбудившиеся от предстоящей возможности власть употребить филантропы рукоделия не грозили. «Лучше не вспоминать». Каждый стремился пощипать щёки его психологической устойчивости морозом назревающего наказания, будто все они вдруг, не сговариваясь, озаботились сердитой охотой мщения, а он «добыча злых забот». Одни, они же свои, обещали его уволить с публичным позором на всю оставшуюся жизнь, другие, то есть чужие, объявить persona non grata [38] и выслать на родину в двадцать четыре часа за саботирование уже данных, правда, устных обещаний.
Внушать любовь для них беда,Пугать людей для них отрада.Но он выдерживал осаду объединённых карательных намерений и оставался неусмирённым («Ромео – мелюзга»? Да, боже правый, нет! «Ромео для позора не рождён»), поскольку настолько хорошо знал вопрос, по которому возникли разногласия, что сумел в полном одиночестве (а кто-то говорит, что один в поле не воин, запревшая брехня!) благодаря неимоверной стойкости духа и редкого профессионализма доказать несостоятельность всех претензий, умышленное преувеличение ничтожной проблемы и фальсификацию якобы проведённых экспертиз и сделанных заключений. Когда стало ясно, что преференции обманным, подложным путём получены не будут, а сам обман во всей своей красе откроется высшему руководству страны, верхушка «провинившегося» местного министерства попросила на переговоры для урегулирования неприятных последствий именно его, в ходе которых он сумел отстоять не только интересы своей страны, но и избавить вдобавок и зарвавшихся визави, по их собственной вкрадчивой просьбе, от неизбежно надвигающего разоблачения и прямолинейных организационных выводов. Доверительное отношение к нему после этого стало абсолютным, чем он не один раз пользовался для реализации интересов своей страны.
Правда, личный итог этой истории оказался сродни институтской. Его высокое руководство все успехи по вскрытию подлога и сохранению дружеских отношений приписало в конечном итоге себе уже перед самым высоким руководством государства, получив от этого выгоду служебную и материальную. Вениамину Ростиславовичу буквально не сказали даже слова «спасибо» из вежливости. Это как же так, спросите? Да так. Трудно в такое поверить нормальному человеку с живой совестью, но где они, нормальные и с совестью, там, где у совести постоянно выигрывают в прятки, где никогда не ступала и не ступит нога нормального человека. Подумать только: человек избавил свою страну от невосполнимых затрат на сотни миллионов долларов и не получил ничего в благодарность, тогда как иные, чиновники, эти позолоченные бонзы, которые готовы были ввергнуть страну в эти убытки, получили правительственные награды и пошли вон на повышение. «…Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём» (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57 [39]). Таковы неизменяемые шкодливые реалии двухтысячелетнего христианского времени, открывающие наготу интимных мест человеческого бесстыдства. Выдающаяся личность нужна в экстремальных ситуациях, для достижения кажущихся недостижимыми целей, в минуты смертельной опасности; человечеству, чтобы выбраться из бурелома окаменелых сердец, требуется самоотверженный и благородный Данко. Однако, когда начинается «материализация духов и раздача слонов», она только мешает, путаясь под ногами сильных мира сего, пришедших на этот свет, словно злые печенеги, «на ловлю счастья и чинов». Её необходимо вдруг посадить на проходе, не замечать, забыть, он должен непременно вовремя ничком упасть в грязь, навсегда простудиться, а ещё лучше, умереть, пусть даже и фигурально, не по-настоящему, но так, чтобы исчезнуть вместе с самим событием среди коротконогих дорог памяти.
Столкнуть с Земли, покончить с днём рожденья…Поэтому хорошо, что, как говорится, его за это славное и экономически выгодное для отечественного производителя деяние не наказали рублём в пользу потенциальных растратчиков средств этого самого производителя, а после этого ещё и не уволили, скажем, в связи с оптимизацией, непроизвольно потребовавшейся информатизацией информации или инстинктивно наметившимся реинжинирингом инжиниринга. Он это благодеяние со стороны своего руководства, конечно, должным образом оценил и предпринял инициативные усилия в ответ, чтобы надёжно обеспечить справедливый характер последствий произошедшего. Да-да, не удивляйтесь и не говорите, что так не бывает или что таких людей не существует в природе, они вымерли, – бывают, существуют, не вымерли, и один из таких в сложившейся ситуации наказал себя сам за подобное к нему вызывающе-непочтительное отношение именно тем, чего не случилось сверху, потому что просто взял и уволился сам с присущей ему нечеловеческой гордостью.



