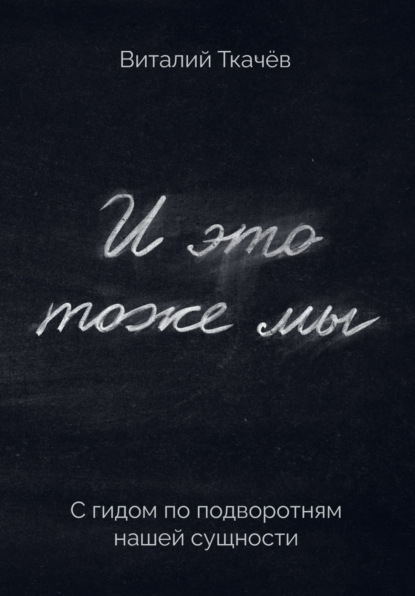
Полная версия:
И это тоже мы. С гидом по подворотням нашей сущности
– На себя.
– А за что, интересно? Чем вы так перед собой провинились? – едва уловимый интерес мелькнул в глазах врача.
– За то, что накануне, будучи в прекраснейшем расположении своего духа, неудачно попытался у вашей коллеги, не имевшей, к сожалению, подобного настроения, получить справку об отсутствии тесной и долгоиграющей связи с вашим когда-то уважаемым учреждением.
– А куда вам нужна справка?
– В университет для работы.
– И кем?
– Профессором.
– Да? Вы действительно профессор?
– Уже давно.
– А что преподаёте?
– Историю и теорию международных отношений.
Доктору неотложно потребовалось вполне определённое время для осмысления услышанного редкого для тамошних старожилов сочетания немедицинских терминов. Познавательная озадаченность читалась на её открытом на соответствующей справочной странице лице – видимо, ей не приходилось видеть на рутинном приёме живых и настоящих профессоров, да ещё и специализирующихся в подобной, далёкой от повседневных забот области знаний. Ненастоящих, судя по всему, случалось, возможно, что и не редко. Надобилось в этой связи избавиться прежде всего от всяких всплывших из памяти сомнений относительно истинности присутствующей личности, поэтому последовала испытующая просьба.
– Расскажите, пожалуйста, что вчера произошло?
– Меня попросили сказать, чем отличается лодка от рыбы.
– Сказали?
– Сказал, – тяжело вздохнул Вениамин Ростиславович с видом закоренелого отказника в получении справок, – но вместо простого и ясного ответа взял и зачем-то откровенно пошутил.
– А зачем в самом деле? – участковая продолжала убеждать себя в правдивости слов посетителя.
– Сам этого не понял, видимо, было хорошее настроение.
– Как конкретно пошутили?
– Если говорить кратко, самую суть, без сопутствующих дополнительных эпитетов и комментариев, то заявил, что лодка дырявая, а рыба костлявая.
– И что за этим последовало?
– Да ничего особенного, кроме того, что справку мне категорически не дали, а направили на какую-то комиссию транзитом через посещение вас. Я бы сказал, что реакция была неадекватно предвзятой, а комиссия – как наказание за юмор.
– Ах, даже так, понятно, – как-то задумчиво-мечтательно произнесла участковая.
– После подобной реакции в вашем заведении на явную по форме и невинную по содержанию шутку, вам впору вешать над входом в диспансер, как когда-то фашисты, если верить в достоверность свидетельств ряда очевидцев, на воротах фашистского концлагеря Маутхаузен крылатую фразу из Данте, но, естественно, на немецком языке: «Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet», только, принимая во внимание, что ваш диспансер не относится, я думаю, к разновидности концлагеря всё-таки, посоветовал бы заменить в ней [47]кое-что для пущей адекватности: «Оставь-ка шутку, всяк сюда входящий».
Участковый врач на пару секунд застыла от рубленного немецкого звучания, а потом, видимо, припомнив свои советские школьные годы, дозированно оживила проблеском разумения лишь светло-сероватый оттенок застывших глаз, что должно было показать собеседнику: шутка понята, но не одобрена. Затем взгляд зашевелился большим беспокойством, и это выразилось в следующей реплике:
– Если вы вчера так же вызывающе общались, то я очень даже хорошо понимаю, почему вам не выписали необходимую справку. У нас, знаете ли, как-то не слишком любят, или если точнее, то совсем не любят, когда пациенты начинают под руку шуточки отпускать или зачем-то глупо умничать, а если вы это делали одновременно, то… ну, в общем-то, и сами всё понимаете. А кроме того, со своими фашистами вы сейчас, конечно, сильно и, я бы сказала даже, в каком-то смысле обидно переборщили – это во‐первых, а во‐вторых, далеко не все психиатры не обладают тонким чувством юмора. В нашем коллективе тоже умеют остроумно пошутить, но надо знать где, когда, а самое главное, с кем.
– Право же, фашисты совсем не мои личные, они, если позволите, наши общие, коллективные, но я понял ваш откровенный намёк, – быстро ответил проницательный Вениамин Ростиславович, сообразив, что врачи могут ведь так же ревностно и критически относиться друг к другу, как, например, те же самые литераторы, что всем так хорошо известно из литературоведческих сочинений, – с ним однозначно согласен и поэтому уточняю совет перемещением фразы с фасада здания внутрь, на дверь кабинета вчерашней вашей коллеги, чуть выше таблички с указанием её фамилии, имени, отчества и специальности.
Взгляд продолжил сохранять свою прежнею неусидчивость частым похлопыванием ресниц, но с небольшим вкраплением прожилок некоего осмысления.
– Я опять всё понял и заменяю слово «коллега» на более нейтральное, например «соседка по этажу».
Глаза осветились пришедшим согласием и слились динамикой с остальными фрагментами лица, все элементы которого отныне выглядели единым изображением, и это наглядно служило подтверждением того, что теперь однозначно всё в репликах пациента находится на своих местах. Вениамин Ростиславович подумал про себя: «Такими темпами я скоро стану успешным физиономистом, можно будет на пенсии переквалифицироваться без дополнительного обучения».
– Но если у вас в уважаемом и дружном коллективе хорошо известно, что местом прежней работы соседки психоневрологической направленности были раскрашенные обидами и раздражениями застенки некоего фигурального гестапо, то с какой стати она принимает в стране-победительнице и в мирное время? Мы что, поголовно все советские подпольщики, красные партизаны, злостные шпионы, беспринципные коллаборационисты и всякого рода сочувствующие Neuordnung [48] на оккупированных территориях, хорошо сохранившиеся со времён Великой Отечественной войны?
– С этим уже давайте не ко мне, я – не главврач, – с заученным на многолетний зубок знанием дела закончила распоясавшийся разговор участковая и по-хозяйски (равнодушно) протянула многословно-говорливому от наболевшего за последние сутки посетителю необходимое направление на нежелательное, но требуемое для него тестирование.
Вениамин Ростиславович хотел бы, да и мог бы ещё многое добавить относительно соседки участковой, главврача и внутреннего дизайна диспансера, на языке у него просто так и вертелась нарядная фраза, чтобы себя показать:
Здесь врачи – узурпаторы,Злые, как аллигаторы!Правда, повертелась-повертелась, но не показалась, поскольку он быстро осознал благодаря прозвучавшему ответу бесполезность словесных потуг в данном кабинете – пришлось молча, демонстрируя лишь вдох и выдох, ретироваться с казённым листочком и в коридоре разом оказаться в ситуации, о которой мечтают если не миллиарды, то уж точно сотни миллионов людей на планете: по одному-единственному щелчку пальцев одной руки кардинально изменить свою судьбу. Не хватает денег на хлеб, нечем платить за жильё, никто, особенно молоденькие девушки, не любит, начальник – самодур, чиновник – идиот, в собственном доме взрывают, сбивает машина на переходе, дети – бездари, всё болит, по телевизору только низкосортная дрянь и так далее и тому подобное. Вдруг ты неожиданно даже для себя щёлкаешь пальцами, и наступает совершенно иная жизнь: сытая, богатая, счастливая, беззаботная, здоровая, справедливая, спокойная, весёлая, отпускная, курортная, царская, сказочная. У Вениамина Ростиславовича был именно этот момент, только, правда, совсем наоборот, прямо противоположный, о котором в здравом уме никто никогда не мечтает, но который, как правило, и приходит. Кто-то другой щёлкает пальцами за тебя, а твоя жизнь рушится подмытым берегом, наступает дантовский смысл «Inferno», безвозвратная слякоть и сплошной бытовой мат-перемат в сухом остатке, но постоянно. В одно мгновение успешная, реализовавшаяся жизнь Вениам на Ростиславовича могла провалиться в тартарары одним движением пальцев кого-то из врачей этого диспансера. Человеческая жизнь за один щелчок пальцев [49]– ничего себе размен, «ничего себе за хлебушком сходил»: пешка за ферзя, слова за дело, телегу без лошади за автомобиль ручной сборки с тремястами лошадиными силами и турбонаддувом.
Вениамин Ростиславович не просто понуро побрёл к метро, он уже практически, как немолодая и видавшая виды тягловая лошадь-тяжеловоз, тащил за собой, раскачиваясь по-бурлацки на лямках из стороны в сторону, неравноценно из-за собственной непрактичности выменянную у врачей за неуместную шутку с ехидной гримасой упорхнувшей прямо из самой руки справки скрипучую и громоздкую, а главное, бесполезную телегу с капризной дальнейшей неопределённостью. Он двигал свою глупо приобретённую повозку уже ставшим привычным для него маршрутом, причём настолько привычным, что хоть экскурсоводом устраивайся на общественных началах для всех желающих с надеждой пройти к долгожданному диспансеру и вернуться, правда не всегда с той же решимостью и лёгкостью, иногда с телегой, как он в данном случае, а иногда уже и в ней самой с ногами. Клиентов бы было наверняка хоть отбавляй, любопытства ради. Всегда же будет интересно узнать одному человеку всю подноготную другого, причём даже хлебом в этот счастливый для него момент можно экономно не кормить, вообще не заметит, радостный. Вот они с телегой прошли от неисторического, но судьбоносного для многих диспансера, который, к счастью, и в архитектурном плане также отнюдь не являлся самым примечательным зданием многовековой столицы, мимо княжеской усадьбы, через территорию, отведённую для реставрированной церкви и вновь возведённых вспомогательных построек в виде стилизованных монастырских помещений. Проскрипели мимо прилегающего фигуристого пруда почти в виде значка бесконечности. Какое знаковое соседство! Насколько же всё-таки в жизни всё символично иногда бывает: дом Бога вместе с бесконечным существованием в одну сторону, бесконечность приводит в дом Бога в другую сторону. Лишь символичный Вениамин Ростиславович сегодня со своей телегой в одну сторону, а назавтра с ней же в другую. Он же не к Богу пока.
Наконец, он дотащился, минуя небольшой пустырь, до очень длинного десятиподъездного, но двенадцатиэтажного дома (не подумайте, что Вениамин Ростиславович, как истинный хоффмановский савант Рэймонд – «человек дождя», пересчитал всё быстренько сам, просто дом был типовой и когда-то новостроечный) с невысокой аркой посередине для хоть какого-то ежедневного удобства тамошних жителей. Само здание, честно говоря, было малопримечательным явлением столичной жизни, хоть с аркой, хоть без оной. Он уже хотел переключить неспешное внимание вымышленных экскурсантов – потенциальных получателей заветной справки или реально разочарованных отказников, смотря с какой стороны проводится осмотр, – с этого объекта на следующий пункт в программе осмотра, но именно в этот момент он напрочь забыл о своих обязанностях добровольного экскурсовода: он увидел себя, да, себя собственной персоной, выходящего через арку на бульвар, себя-то себя, но если точнее, то себя, выводившегося хозяином на поводке. В этом взлохмаченном длинношёрстном псе полудворового происхождения он моментально узнал себя по тому несчастному искалеченному виду, который он представлял. Вениамин Ростиславович непроизвольно встретился с взглядом его светлых глаз, которые как будто бы обесцветились от огромного количества слёз, выплаканных долгими ночами от обиды за свою такую ущербную собачью жизнь. Вениамин Ростиславович с телегой даже остановился, чтобы присмотреться к себе получше со стороны. Это было печальное, да нет, смело можно сказать, это было жуткое зрелище. Ему сразу вспомнилась огорчительная история из детско-юношеского прошлого о преданном белом Биме, но только не в прозаическом исполнении Гавриила Николаевича в виде повести, а именно в последовавшем через несколько лет кинематографическом варианте Станислава Иосифовича в виде слезливого двухсерийного фильма. Нет-нет, у Вениамина Ростиславовича не было чёрного мохнатого уха и заботливого, доброго хозяина Ивана Ивановича, не это роднило их, делало братьями-близнецами. Конечно, они к тому же не были даже похожи внешне. Но ведь было что-то в собаке на поводке особенное, не случайно он сопоставил её с собой. Да, было. Бедное четвероногое животное имело только… три (три!) конечности. Это как же так? Ей не хватало левой передней лапы. Она не пыталась бежать, она просто пыталась идти, но получалось у неё это настолько неуклюже, что её из-за отсутствия необходимой опоры в необходимое время заваливало на левую сторону, и, чтобы не упасть, ей приходилось подпрыгивать, снова подставляя под опору правую лапу. Остаток четвёртой лапы, выступающий из тела примерно на одну треть своей природной длины, совершал при этом какие-то судорожные вращательные движение, похожие на активное зрительское хлопанье в ладоши, но только одной имеющейся рукой. Каждое такое никчёмное движение вызывало душераздирающий вопль всего здорового организма у нормального человека. Это было ужасно, кошмарно, изуверски. Подскоки собаки на трёх лапах были живой картинкой не для слабонервных – закрывай глаза, отводи в сторону взгляд.
Удивительно так, но для Вениамина Ростиславовича ничего ужасного в этом не было. Ни одна фибра его тонко сплетённой филиграни души ни на йоту никуда не шелохнулась. Спросите, почему? Да нет, вовсе не потому, что его трепетное сердце вдруг как-то моментально окаменело, будто доисторическое дерево, или он был по жизни абсолютно равнодушен к животным вообще и к домашним в частности, или безучастен только по отношению к хлопотным собакам. Нет, ничего подобного, он просто увидел привычное, знакомое, то, что уже видел каждый день и притом по нескольку раз, особенно утром и вечером. Никто же никогда из нормальных людей не падает незамедлительно и систематически в глубокий обморок, когда смотрит на свои меняющиеся отражения во всех их многообразных проявлениях в обычное зеркало разной конфигурации в ванной комнате или прихожей. А ведь в него смотрятся не только абсолютно непогрешимые, святые люди со светящимися добром глазами, которым не из-за чего уходить в горизонтальное и почти бездыханное положение, но и иные, тронутые несовершенством личности.
Он ещё долго стоял и смотрел вслед медленно ковыляющей прочь собаке. Это был он, такой же несчастный, с изуродованной душой, на одной ноге. Его душа была одноногим инвалидом, она им стала после посещений этого по иронии названного медицинским заведения. Одноногий инвалид не может ходить без всяких там дополнительных приспособлений – он если и может вообще хоть как-то двигаться вперёд, а не на месте, то только ползком, извиваясь по земле змеёй. А считается ли ползающий человек человеком? Как бы поступил щепетильный Карл Линней при разработке своей классификации, если бы человек был из подотряда класса пресмыкающихся с хвостом в виде одной ноги? От кого бы тогда произошёл человек с точки зрения прозорливого Чарльза Дарвина? Ему одноногому никак невозможно было залезать за бананом и слезать обратно с пальмы да ещё прыгать при необходимости с ветки на ветку, как это виртуозно делал неотразимый Тарзан. Кем бы была, скажем, сухопутная стрекоза без крыла? В некоторых случаях даже многие двуногие люди не ходят прямо, а ползают, пресмыкаются. В этом виновата их одноногая душа. На первый взгляд может показаться, что такие люди могут ходить, но, присмотревшись повнимательнее, убеждаешься, не остаётся никаких сомнений – они уроды, они ползучие, они гремучие, они гадкие.
Вениамин Ростиславович понял, что уже второй день он недурственно так на всю свою неглупую голову травмирован, поскольку уже не просто тащил свою телегу к метро, он, начиная от арки, стал ещё и подскакивать к нему на одной ножке, изображая собой, как будто специально, надрессировано, две из шести степеней свободы – вертикальную и поперечную качку – всего своего красивого ещё тела, в точности как изуродованная собака, только запряжённый ещё при этом в повозку, словно на опилках манежа «старого» цирка под репризы двух известных клоунов, кривляющихся весь вечер для ублажения взыскательной и избалованной, но по-детски хохочущей публики. При входе в метро пришлось затаскивать телегу с собой через придирчивый турникет. Шапито переехало. «Пора домой. Я чем-то удручён».
Глава четвёртая
День третий
Субботний день прошёл непримечательно, вообще незаметно, без малейшего события, и поэтому растянулся на бесконечную дорогу за горизонт гонимого коварным ветром хилого судёнышка с вышедшим из строя такелажем и со сломанным рулём. Непонятно, куда бы загнался этот беспомощный кораблик по воле волн, пассатов и муссонов, в какие неведомые и дальние экзотические страны, но Вениамин Ростиславович предусмотрительно, не желая демонстрировать жене своё подавленное состояние щепки в океане, в котором та его никогда не видела и могла законно психануть со знанием дела от свалившихся незнамо откуда переживаний за него, а также опасаясь её докучливых вопросов по этому незнакомому поводу, которые грозили бы привести его к нервному срыву на неё и ненужной ссоре, отправил супругу с утра от греха подальше – в данном случае таким местом был всесезонный трёхэтажный особняк-дача её состоятельных родителей. Проводив её до натруженного мытарством такси, он вернулся в опустевшую квартиру, запер входную дверь на встроенный в неё засов с таким усердием, словно в одиночку и вручную поднял обитый кованым железом деревянный мост через глубокий ров с зацветшей водой вокруг своего неприступного после этого акта родового замка на восьмом этаже двадцатиэтажного монолитного здания точечной застройки на границе третьего транспортного кольца.
Наступило полное одиночество, которое не нарушали даже непоседливые мухи, также заблаговременно отправившиеся спать в недоступных для хозяйского пылесоса и тряпки домработницы местах до следующего лета. Оно стягивало его всё туже и туже, как будто он не переставал погружаться на морскую глубину, где уже ничего не могло помешать ему в его еде (неправдоподобно, скажете, но это его, а не ваши беззаботные ощущения!), скрываемой от посторонних глаз за тонкой кожей с родинками и надетым поверх домашнего спортивного костюма банным халатом в синий цветочек. И он целый день ел, лёжа при этом тем самым не проложенным растерявшимся кормчим курсом в пугающее никуда, животом вверх на любимом диване и глядя в одну точку на высоком потолке. Он нашёл её отсутствующим взглядом почти сразу, как устроился поесть. Нельзя сказать, что она его чем-то особенным заинтересовала или выделялась изысканным барельефом на завистливо-ровном белом фоне. Человек со стороны её вообще бы не заметил, сколько бы напряжённо ни вглядывался, прищуриваясь или протирая глаза фалангами пальцев что левой, что правой руки. Да и сам Вениамин Ростиславович вряд ли бы смог членораздельно объяснить при необходимости, чем она отличается от себе подобных на этой слабо освещённой торшерной лампой нависшей плоскости. Но необходимости не было, и она для него незатейливо светилась самой что ни на есть яркой Полярной звездой на чёрном безлунном небе, возбуждая перманентный аппетит и способствуя быстрому пищеварению, но абсолютно не указывая, в отличие от опытных просоленных шкиперов, единственно верное направление дальнейшего движения к получению многострадальной справки. На последнее он, по правде говоря, уже и не надеялся.
Нет-нет, не совсем так. Он представлял себя скорее крошечным необитаемым коралловым островком среди безбрежной центральной части Индийского океана, окружённым могучими иссиня-чёрными волнами, угрожающими в любой момент смыть его вместе с ветхим пристанищем диванного типа в бескрайнюю, кипящую ухмыляющимися физиономиями психиатрических пираний (то, что эти представители исключительно пресноводные и даже всеядные, было в данную минуту ему не так важно – важна была только их пугающая беззащитное незагоревшее тело хищническая натура) в белых медицинских халатах злобную вселенную с агрессивной средой для его рафинированного интеллигентного воспитания. Не сказать бы, что он был уж таким одиозным представителем той части интеллигенции, которую в народе давно уже справедливо прозвали вшивой, не способной уживаться с рабоче-крестьянским большинством, разговаривать с ним на одном языке или чувствовать себя среди него своей по русскому духу. Вениамин Ростиславович был точно не из этого шелудивого числа, его практический диапазон, не говоря уж о потенциальном, покрывал все возможные слои современного и перспективного, разношёрстного и гуттаперчевого общества. С этим проблем не было никогда и нигде, на родине или за рубежами оной. Везде он преодолевал отчуждение, непонимание, враждебность виртуозно под восхищённые или завистливые взгляды окружающих его сопутствующих людей. Но, однозначно, он никогда не пытался налаживать отношения в водной среде, в которой рыскали вечно неудовлетворённые количеством корма хищные рыбы, которые не разбирали, что и как глотать, что и как надкусывать, которые никак не прислушивались к здравомыслящим речам подводного мира. Мелкая рыбёшка – в желудок, крупная, но безобидная рыба – в желудок, нога огромного наземного животного, опрометчиво стоящая в воде, – в желудок, плывущий курортный человек – туда же; какая разница, в конце концов, сгодится всё, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И так живут не только хищники с жабрами в воде – так живут хищники с лёгкими на разнообразной ландшафтной суше, именно так живут и двуногие хищники без шерстяного покрова с желчными мыслями на работе, на улице, в транспорте, на тестированиях, как ему казалось.
Придя к редкому для себя самоуничижительному заключению в том смысле, что он и есть этот самый паршивый клок, невидимая глазу пыльца для летучих насекомых, приевшийся однообразием корм для прожорливых психиатров, Вениамин Ростиславович вместо того, чтобы успокоиться на этой оптимистической, но минорной ноте и переключиться на более практические повседневные размышления, отвлекающие своей девственной простотой от решения задач, сравнимых с высшей алгеброй, о которой он знал много страшного от заумных друзей, умудрившихся закончить с отличием механико-математический факультет МГУ, с новой силой, словно молодой амбиционный хоккеист со скамейки запасных на замену уставшего от громоздкой кровати славы ветерана, углубился в океанскую бездну обидчивых и злопамятных обитателей.
Опьянённый хмельными градусами самоотвержения, он обстоятельно поедал самого себя ножом и вилкой, чайной и столовой ложками, не мелочась, использовал и половник и даже некультурно для своего воспитания пил через край, что за человеческим столом своему воспитанию никогда позволить не мог, – одним словом, пытался съесть себя до дна китайского конусообразного глубокого котла во всех видах, со всеми имеющимися приправами, которые только попадались под раздражённый аппетит, и по всем мыслимым рецептам двух мировых кухонь, а также множества отдельных блюд разных менее гастрономических народов. «Он яростно кусает сам себя…» Но корыта целой субботы ему катастрофически предательски не хватило, поскольку мучительные воспоминания о пережитом и сумные предположения о будущем, уже прозвучавшие и ещё не озвученные вопросы, а также данные и предстоящие ответы готовились внутренним конвейерно-виртуозным шеф-поваром с явно умелым, профессиональным опережением, благо он едва успевал их уминать за обе щёки, не давая выплеснуться и разлиться по дорогому дубовому паркету просторной гостиной.
К наступлению ночи он окончательно выдохся, словно откупоренная прошлым вечером и забытая на столе бутылка газировки, в борьбе со сказочной скатертью-самобранкой, притомился есть с этой бегущей ленты всё подряд (чем не Робин Бобин?), без разбору, и уснул, обглоданный и допитый до чёртиков, изрядно пережёванный острыми зубами доморощенного психоза и переваренный в едком соке разочарования своей удручающей сущностью, но по-прежнему зверски, до отупения любой возникающей мысли голодный, без реальной маковой росинки во рту в течение всего хлопотливого дня – грандиозного праздника кулинарного истязания собственной фаршированной фобиями «со слезами на глазах» психики, густо приправленной кисло-сладкой подливкой маниакальной растерянности детского непонимания.
Мой день прошёл в тоске и маете.Я горевал в вечерней темноте…Глава пятая
День четвёртый
Выяснилось, что к наступившему воскресенью он себя до конца не доел, видимо, ещё что-то оставалось, поскольку ранним утром он проснулся живым, чем своё очнувшееся сознание немало удивил. Его короткое удивление быстро сменилось тягучим раздражением уже всего организма на собственные пищеварительные мощности. Их халатная недостаточность предвещала увеличение продолжительности завтрака, без пауз переходящего в обед, а обеда, наслаивающегося на ужин. Только подобная трёхсменная работа если не гарантировала выполнение внепланового заказа, то, по крайней мере, могла его значительно приблизить, а с ним и итоговую остановку переутомлённой печи по суточной выплавке слябов и блюмов мучительных ожиданий.

