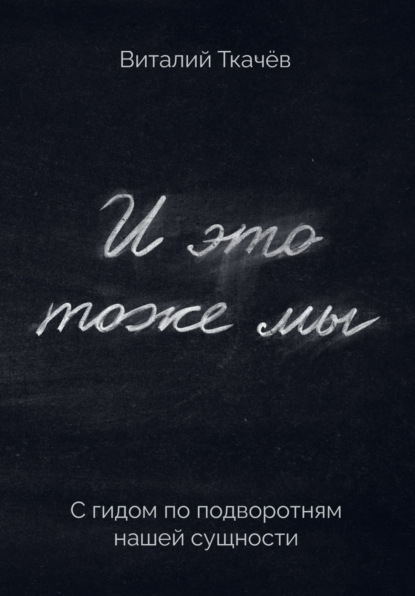
Полная версия:
И это тоже мы. С гидом по подворотням нашей сущности
Второй выходной день самопоедания или самоиспепеления, смотря с какой стороны посмотреть на единый, в общем-то, процесс самоуничтожения, тут всё зависит скорее от степени кровожадности стороннего наблюдателя, был похож на предыдущий, как две последовательные капли воды в свободном полёте из протекающего крана. Такое бывает, в природе практически нет, в ней всегда что-то да меняется: расцветает, созревает, отрастает, офигуривается, опадает, уплывает, засыхает и сгнивает, а у представителей деградирующей группы людей из рудиментного отряда двуногих, особенно мучающих себя калорийной пищей забродивших переживаний, регулярно изымаемой из самого себя, как доморощенные полуфабрикаты из вместительного трёхкамерного холодильника, – да.
И день сегодняшний похож на день вчерашний, —Цветёт зелёной яшмойСтоячая вода…У них, людей, в зависимости от силы аппетита, вызванного конкретными обстоятельствами конкретного дела в конкретный день, это могут быть и три капли, и четыре, и пять, и… в общем, некое неизвестное и растущее число икс (х) в энной (n) степени. Капать же само по себе не перестаёт до тех пор, пока не кончаются нажитые с возрастом и сэкономленные опытом запасы чувственной еды, то есть пока не иссякает полностью внутренний душевно-эмоциональный источник, и следом, как обычно водится в городских условиях, не забирает натренированная ежедневными выездами на адрес мускулисто-крепкая бригада, только не скорой помощи, но очень на неё похожая, для его безвозмездного, но медикаментозного пополнения в государственный (казённый) санаторий особого назначения для специфического состояния сверх возбуждённого истощения от ненормального переедания энергетических резервов.
А возможно, жизнью утомлённый,В мир попал ты несколько иной:В жёлтом доме чёртиков зелёныхЛовишь ты казённой простынёй.А иногда (если всё же фатально не повезло с объективной оценкой своих возможностей, если слишком переусердствовал в потугах разложить себя маленькими кусочками аккуратненько на большой тарелке, если запаса здоровья не хватило) и намного раньше, и не туда, за высокий забор, а за низенькую оградку с крошечной калиточкой и с исключительно хорошими воспоминаниями о себе («De mortuis nil nisi bonum dicendum est» [50]) в совершенно иной, как правило, бестревожный приют, где уже совсем не лечат и который только посещают по некоторым субботним праздникам особого назначения, когда привычно наводят сезонный порядок.
Лишь к затосковавшему от однообразного питания и притомившемуся подобным соседством вечеру воротилась энергичная от полного загородного неведения жена и покормила Вениамина Ростиславовича по-человечески, что подразумевало на первое тарелку наваристого борща на курином бульоне со сметаной и мелко порезанной зеленью из летних запасов, а на второе ещё и домашние, тёщиного приготовления говяжьи котлеты во вкусной подливке и с тонкими макаронами в качестве гарнира, как он любил, в то же время сам он упрямо продолжал параллельно, уткнувшись глазами в меняющиеся женой блюда, лихорадочно скармливать себя себе самому, хищному, но уже без прежнего аппетита и лениво. За этим привычным на выходные занятием его чуть позже в очередной раз, будто бы ребёнка, застал неутомимый на посещения ночных квартир Оле Лукойле (слава богу, не его подводящий окончательные итоги брат!) и, напоив сладким тёплым молоком и раскрыв знаменитый зонтик, правда без цветных картинок, погрузил Вениамина Ростиславовича, истощённого, полого изнутри, как продырявленный барабан, как выпитое через дырочку свежее куриное яйцо, в состояние спасительного беспамятства до следующего утра того дня, наступление которого менее всего хотелось и испуганно ожидалось.
Глава шестая
День пятый
Проснувшись утром, почти съеденный и переваренный терзаниями Вениамин Ростиславович, когда «в остатках сна рождалась явь», уразумел наконец, будучи как-никак настоящим профессором со стажем, что впервые (и это не гипербола!) в своей, в общем-то, не лишённой многочисленных событий и впечатлений жизни испытывал щемящее чувство полнейшего бессилия. Ещё не вставая с постели, он почувствовал, что заболел, заразился им, стукнут им башкой об подушку, повержен, колонизирован им, словно некогда Восток Западом. Всё когда-то, как принято обычно народом язвительно и успокоительно говорить, бывает в первый раз. Но оказаться в состоянии абсолютного, безоговорочного и всепоглощающего бессилия – это чересчур даже для того человека, кто считает себя хоть немного, хоть на йоту мужчиной, не утратившим это божественное предназначение в современной реальности окончательно. А что же тогда говорить, если речь заходит о такой самобытной личности, какой был Вениамин Ростиславович. Не угадали совсем. Дело здесь не в его могучем уме и не в его глубокой нравственности – дело в его воспитании Марьиной Рощей, ещё той старой, бандитской или уже полубандитской, которая отпугивала благопристойных жителей Москвы одним своим упоминанием, в которой существовал свой «комендантский час», свои опорно-пропускные пункты и патрули из блатной, а чаще приблатнённой шпаны.
Веня родился в этом районе, он вырос в этом отдельном мире. Так сложились жизненные обстоятельства у его чистокровно-интеллигентных родителей. Он пропитался с детства специфичным характером этой среды, стал в известном смысле её слепком. И этим сильно отличался от них, родителей, что иногда приводило к конфликтам в семье, особенно во взаимоотношениях с потомственно-академическим отцом. Веня был уникальным ребёнком: словно оправдывая своё имя, безукоризненно воспитанным, с врождённым тактом в стенах дома, но вместе с тем твёрдым, хладнокровным и резким на улице. Он уже с детского сада научился давать отпор, умел постоять за себя. Он делал это чуть ли не ежедневно: по дороге в школу и из школы, по дороге на тренировку и с тренировки. Утром, днём и вечером ему приходилось сталкиваться с местными малолетними бездельничающими стаями и отстаивать словами и кулаками своё право ходить по этой улице, жить в этом доме, вообще – право быть самим собой. Обозвали его друга очкариком – надо объяснить доступными для обозвавших средствами, пусть их будет хоть пяток наглых пацанов, что они не правы. Не уразумели на словах – Веня умел убедить твёрдой силой.
Он был не по годам развитым физически мальчиком. Занятия плаванием, байдаркой, самбо и лёгкой атлетикой очень быстро привели к тому, что значительно расширилась грудная клетка, удлинились рамена, появились грудные и плечевые мышцы, бицепсы и трицепсы, мышцы ног. Один на один с ним вряд ли бы рискнул кто-то связаться не только из ровесников, но и из ребят постарше. Другое дело стая. Но Веня не боялся и стаи, он заставлял её бояться себя. Однажды, лет в двенадцать, он вступился за болезненного, хилого мальчика, который стал объектом насмешек со стороны примерно пятнадцати малолеток. Двум первым, особо задиристым, Веня расквасил носы. Чем бы закончилось Венино вмешательство – осталось неизвестно; скорее всего, его бы побили, и побили бы без сомнения основательно, но, к счастью, вмешались взрослые, увидев потасовку одного против стаи из пятнадцати человек. Евтушенковская «блатная стая», в конце концов, была вынуждена признавать права Вени на собственное мнение из-за страха быть побитой поодиночке. Таким уж он был бесстрашным сызмальства. «Смолоду был грозен он…»
Отпуская Веню гулять на улицу, его родители больше опасались не того, что Веню кто-то обидит, а того, что их сын не даст кому-то спуска за проявление хамства, наглости, невоспитанности, драчливости. Это прозвучит смешно, даже нелепо, но Веня ребёнком, а затем подростком был на своей родной рощинской улице в авторитете, на той самой улице, где жило довольно много действительно «авторитетных» ребят, отсидевших в детских колониях реальные сроки.
В таком режиме Веня жил каждый божий день, поэтому привык чувствовать свою силу, это вошло в его кровь и плоть: сначала силу физическую и психологическую, с годами – моральную и интеллектуальную. И никогда он не оказывался в бессилии, в этом глухом урочище своей воли, какая бы ни была ситуация и в каком бы он ни был состоянии. Никогда и нигде. Каждый раз в нём находились силы найти правильное решение, довести дело до конца, не пасовать перед трудностями, ни у кого не просить помощи без крайней необходимости, даже когда было не по-человечески тяжело, когда уже совсем невмоготу.
Жизнь может вдруг подмять – и я ходилС рогатиной на жизнь, как на медведя.Он умел на редкость терпеливо сносить душевную и физическую боль, когда прямо на его руках от сердечной недостаточности умер тесть, когда в период развала страны его первая жена не выдержала унижения и уехала в эмиграцию к родственникам за границу, когда случались острые и длительные приступы почечных колик или подагры. Как-то один молодой ретивый стоматолог удалил ему за один раз целых два зуба мудрости. Если кто не знает, что это за «удовольствие», пусть остаётся в неведении для своего беззаботного существования, будучи избавленным от подобных, и это не будет преувеличением, пыток. Веня всегда терпел до последнего и уступал боли только в тот момент, когда она принуждала его лезть на стену. Да, в этой борьбе с такой невыносимой болью он был бессилен, не мог противопоставить ей свой твёрдый и стойкий нрав. Иные отступали со своих позиций гораздо раньше, Вениамин Ростиславович уходил последним, как легендарный майор из подземного каземата при обороне Брестской крепости, в полном одиночестве, за человеческой гранью, когда остальные в аналогичных обстоятельствах «устанут ждать». Он же ждал, терпел, боролся. Запас его сил поражал окружающих своей неиссякаемостью. Он их черпал откуда-то глубоко изнутри, словно в нём располагался сам бесконечный космос. Как он это делал, как силы снова и снова наполняли его тело и душу, этого никто не знал, скорее всего, этого не знал и сам Вениамин Ростиславович. Он просто пошёл по дороге, которую выбрал, и никуда не сворачивал, не останавливался, двигался до ближайшей цели. Если вдруг ему вызывали скорую помощь, то всем вокруг было понятно, что с ним что-то не так, происходит что-то сверхъестественное: он не может ни говорить, ни дышать от боли. Разве в таких случаях можно судить о его бессилии? Кто-то осмелится? Кто-то рискнёт сказать о его сущности пренебрежительно:
Не человек, а двуногое бессилие…Давайте, пробуйте, оглядываясь на себя самих честно, без лукавства, с удалёнными зараз всеми зубами мудрости. Можете ведь оказаться сами этими двуногими, но не людьми.
Однако в этот раз всё было по-другому. Он мог свободно говорить, мог легко дышать, и ничего совсем не болело. Цистерны физических и моральных сил с лихвой хватало бы на десятерых. Но всё это теперь не требовалось никак. Он был полон сил, а сделать ничего не мог. Для Вениамина Ростиславовича это было новое и абсолютно неведомое ощущение.
Послушный раб бессильной воли!Его кипящая энергия, его всеобъемлющий интеллект, его несгибаемый характер были бесполезными предметами в руках неумелого ребёнка. Он был бессилен, бессилен постоять за себя, доказать, убедить, что он не псих. Он мысленно дёргал за свои кандалы назначенного в кандидаты умалишённого, пытаясь от них избавиться, но делал это бессильной рукой своего сознания. Его бесило бессилие против своего бессилия. Бессилие всепобедно? Право же, это глумливая насмешка над здравым смыслом, какой-то бессмысленный ноздрёвский алогизм. Впервые за свои прожитые годы он не знал ни толком, ни вообще в целом, что делать и как выходить из подобного анабиозного положения. На него надели смирительные вериги бессилия и безумия.
Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет…Может, ему на самом деле стоило бы быть философом, ведь это, в конце концов, панацея от всех бед и, в частности, от его настоящего удручающего состояния. «…Что даёт философия… силу, несмотря на бессилие». Но поздно, опоздал безнадёжно, последний вагон уже подходит к следующей станции, философами за одно прекрасное и даже пасмурное утро не становятся, поскольку нужен в данном случае долгий и упорный труд над собой, нужно себя пахать поисками и боронить размышлениями.
В его иллюминационной ночной голове тем временем проплывала возвращающейся бегущей строкой когда-то услышанная где-то и от кого-то мысль: «Только сумасшедшие говорят, что они не сумасшедшие». Но это ничем не помогало Вениамину Ростиславовичу и отнюдь не означало для него безусловную готовность сказать в логическую противоположность, что он псих. Он как-то был не совсем уверен в том, что эта произнесённая им публично фраза убедит профессиональных психиатров в наличии у него здоровой психики. Скорее наоборот, она напряжёт и без того напряжённых большой ответственностью врачей. Это был тупик, выхода было не видно, сколько ни озирайся, сколько ни верти головой. Тот самый цугцванг пресловутый кругом, когда, как в детской считалочке, да и нет не говорить, чёрный с белым не носить.
Это было похоже на каламбур, когда беспомощное отчаяние идёт от отчаянного бессилия, от невозможности контролировать происходящее вокруг него. Он не мог никого убедить, как это всегда было с детства. Это была недоступная сфера. Как можно заставить, например, капитана парохода, плывущего по реке мимо тебя, развернуться в обратную сторону силой своей собственной направленной мысли, посланной с берега? Никак. Вот и Вениамин Ростиславович не мог убедить врачей в том, что он психически здоров. А здоров ли? Все мы в известной степени психи, но психи по-своему, ведь у каждого психа своя программа. Одни бегают утром по улицам перед работой и в дождь, и в снег – психи, конечно. Другие переплывают океан в южных тихоокеанских широтах на вёсельной лодке в одиночестве – тоже безусловные психи. Третьи лезут на Джомолунгму по самому опасному южному маршруту, потому что он идёт через ледник Кхумбу, с высочайшим риском быть застигнутыми ветрами, снегопадом, лавинами – однозначные психи. Четвёртые стоят по ночам в очереди в магазин за новым умом в очередной модели iPhone по баснословным для нашего нищего населения ценам – психи в квадрате. Пятые позволяют себе шуточки разные с психиатрами – вообще психи в кубе. Так кто же из нас не сумасшедший? «We’re all mad here. I’m mad. You’re mad». Ткните пальцем наугад в первого попавшегося субъекта в толпе, и попадёте в психа, который тут же в ответ злобно обзовёт вас тем же самым эпитетом, ибо он и вы, да и все мы вышли с одного двора. Говоришь на меня [51]– переводишь на себя. Полный дом психов, улица психов, город психов, страна психов, планета психов, а, скорее всего, если и есть во Вселенной обитаемые миры в иных галактиках, то там тоже живут одни лишь психи. Ну какой нормальный будет так далеко жить от нашей земной сверхразумной цивилизации – «dans ce meilleur des mondes possibles»? [52]Инопланетяне – психи, гуманоиды – психи. Ну, кто ещё там не псих? Эй, отзовись, и тут же, мигом, станешь психом, потому что везде одни только психи. К чему, спотыкаясь, торопливо стремиться успеть, например, к звёздам в неведомую инопланетную даль, если к этому призывает «глухой сумасшедший старик» Константин Эдуардович, на которого нормальные люди смотрели «как на чудака, занимающегося безделушками», когда таких же у каждого под рукой, не выходя даже за ворота, собственно, полный огород, особенно к осени.
Спрашивается, как в такой ситуации может быть нормальным один лишь несчастный Вениамин Ростиславович (в голове его гравировалась обречённая дума: «…и я – похож на непохожих…») и группа самоотверженных врачей, составляющая комиссию по психам? Если на комиссию ходят одни психи, как бедным докторам определить нормального человека? Опять никак. Нормальный среди сумасшедших априори будет смотреться белой вороной, то есть ярко выраженным психом, которому это тронувшееся в мир искажённой реальности большинство скажет: «Ты по преимуществу находишься в недуге, потому что не подобен нам». Замкнутый порочный круг имени Вениамина Ростиславовича. Самое время в этой связи подсказать ему последнюю надежду на благоприятный исход в виде навеянной общением с уверенно прогрессирующим в сторону душевной болезни Константином Николаевичем уместной и лаконичной строки впечатлённого Александра Сергеевича:
Не дай мне бог сойти с ума.Полное бессилие. Его обокрали средь бела дня, вытащили из груди все силы. И с этим надо смириться. Надо смириться с тем, что ты никто, что ты пациент психоневрологического диспансера. «Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя». Он пытался хранить за железными засовами своей воли каменной кладки. Надо просто прийти в указанное в талончике время в указанный кабинет к указанному доктору и выполнить как бы между прочим указанные задания. И всё. С не покорёженным от сознания бессилия (товарным) видом. Лишено всякого смысла принудительное доказательство, что ты не псих, не пресловутый «верблюд гималайский». А кто-то пробовал не из психов доказать кому бы то ни было, что он не гималайский и не верблюд? Нет? Тогда попробуйте как-нибудь на досуге ради забавы. Это занимательнейшее действо именно не для психов, ибо истинные психи без труда аргументированно докажут и убедят врачей любой квалификации выдать им справку о том, что они не являются верблюдами. Для них это нормально. Для нормального это не нормально, поскольку ничего не получится, и его упекут в соответствующую лечебницу. Нормальному человеку не хватит гималайских мозгов. Он не придумает ничего оригинального, ошеломляющего, кроме невнятного лепетания: «Вы что издеваетесь?» или «Я разве похож на верблюда, да ещё и двугорбого?». Он ведь отродясь был нормальным, раз окончил с отличием, с красным дипломом, соответственно МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ, МГИМО и другие звучные высшие учебные заведения или все их, вместе взятые, и притом одновременно. А иные даже могут упомянуть ведущие западные учебные заведения. Кто поверит из врачей или, правильнее, кто из них примет во внимание, что ты зарегистрированный выпускник Оксфорда или Болоньи, Сорбонны или Кембриджа, если попался на крючок доморощенной комиссии? Точно псих. Право же, разве могут дипломированные, например, дипломаты собственноручно быть сумасшедшими. Никогда. Сумасшедшие не они, а как раз сама система образования в стране, которая делает из нормальных людей дипломатов с дипломами. Приходит такой дипломат в диспансер за справкой, что не состоит на сумасшедшем учёте, и ему её сразу выдают без лишних колебаний, без всякого удостоверяющего приёма у неприязненного доктора и унизительной мзды за снисходительное признание не психом – дипломированный же ведь дипломат. Кто-то встречал когда-нибудь и где-нибудь дипломатов, которые бы признавали себя сумасшедшими? Скорее всего, нет. Можно даже смело говорить, что никогда. Сумасшедшие все их визави, но только не они. Они априори нормальные, как и суровые врачи.
Другое дело какой-то Вениамин Ростиславович со своими неуместными шуточками. Он ведь не дипломат, хоть и с дипломом, хоть и был на заграничной службе. Он ведь просто типичный специалист, самонадеянно претендующий на то, чтобы поделиться своими профессиональными знаниями, опытом и навыками со следующим поколением за мизерное вознаграждение, которое хватит лишь на дорогу в институт и обратно, а также на чашечку, нет, пластиковый стаканчик растворимого кофе с ложечкой сахара и некий бутерброд, нет, не с икрой или сёмгой, с сыром, произведённым с применением вредного для здоровья, но дешёвого пальмового масла, завозимого из стран Юго-Восточной Азии в обмен на военные самолёты. Это кофейно-бутербродное наслаждение благодаря покалеченному выгодой товарообороту любезно предоставляет студенческая столовая, да ещё и по льготным ценам. Ну, не псих ли Вениамин Ростиславович на самом деле? Шизик. Нормальные люди ничем не делятся, а если и делятся, то только «самой неинтересностью своей», ибо нет у них в недрах ничего примечательного, зато работают там, где за это их качество платят сногсшибательные зарплаты, позволяющие употреблять по утрам «ананасы в шампанском», несмотря на признание плодовито-зычно-урождённого Игоря Васильевича, который рассматривал их как «пульс вечеров».
Полностью обессиленный усердным копанием в своём нутре глубоких геометрически правильных ям в поисках причин произошедшего четырьмя днями ранее, катастрофически разочарованный в себе из-за неудавшихся попыток их обнаружения, не найдя «защиту в беззащитном теле» и «несколько раз убив себя из револьвера», Вениамин Ростиславович, как было предписано, погожим утром отправился в заколдованный для него диспансер на обследование психического состояния собственного душевного мира.
В истекшую ночь к нему спустилось отрезвление, как у сильно пьяного, только при пробуждении огуречный рассол или пива стакан не потребовались из трясущегося, но всё же, видимо, от холода холодильника. Ещё вчера он полагал, что знал об этой жизни всё или почти всё. Ему казалось, что, в отличие от наивного Сократа, он знал ответ на любой, даже каверзный детский, вопрос, он был мудрым и всемогущим, ему не было равных в профессиональном плане, море (не Балтийское) было по колено, знаток из знатоков давно поселился в нём с постоянной пропиской. А проснувшись от тревожного выдоха хороводных воспоминаний прошедшего дня, он почувствовал себя редким ничтожеством перед могучим и неотразимым словом «псих», которое обволакивало его своим безапелляционным величием и таинственностью, щупальцами психиатрического превосходства.
Уже безумие крыломДуши накрыло половину…Оно вызывало в Вениамине Ростиславовиче шумное роение непривычных для него размышлений, скорее даже риторических дурацких вопросов, которые при этом «шли толпою, врозь и парами». Примеры? Пожалуйста. А чистят ли психи зубы, и если да, то зачем? А зачем мыть руки с мылом, ведь нормальным от этой процедуры никогда не станешь? А зачем утром завтракать, если всё равно к обеду проголодаешься, может, лучше уж сразу пообедать, чтобы не тратить время зря? А зачем ему надевать носки, без них ноге намного просторнее и по-деревенски свободнее дышится, да и стирать потом меньше придётся?
Мне невозможно быть собой,Мне хочется сойти с ума…«Если я псих, – рассуждал он несуемудро, как привык, – то пойду на проверку неумытый, небритый, голодный и босой, какая, в конце концов, разница, каким пришёл, главное – как ответить».
У психиатра накануне он был в носках, без щетины на лице и с подстриженными ногтями, а сказал не то, и всё это не спасло.
«Правда, хотелось тогда чего-нибудь перекусить, но не в бутерброде же дело!» – мучился он неестественным для доктора наук вопросом.
Врач даже не поинтересовался, в носках ли Вениамин Ростиславович и поел ли перед посещением. Зато задал вопрос о лодке и рыбе. А хотелось бы наоборот. Пришёл в носках, без длинных ногтей на руках и без остатков пищи между зубами, значит, нормальный, иди и получай без всяких вопросов законную справку, только печать в сто пятом кабинете не забудь поставить, поскольку без печати – это как если бы и без самой справки, «как янычар без ятагана». Он с вызовом посмотрел на пару носков, лежащих на полке, но те не отреагировали на его резкий взгляд, на его глумление над самим собой и продолжали по-прежнему уныло молчать и лежать неподвижно. Не получив никакой поддержки своим мечтаниям, он был вынужден взять их и натянуть на ноги. Но всё-таки не так вызывающе и демонстративно, как объяснял однажды один известный автор: «На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую – только носок. Пусть все видят, что я взволнован». После подобных откровений неудивительным уже кажется точное наблюдение поэта:
И человек с умасам незаметно сходит…По дороге на тестирование Вениамин Ростиславович продолжал мысленно иронизировать по поводу нелепой ситуации, но с приближением нужной станции метро и затем особенно самого диспансера ирония как-то трусовато, словно в неё постепенно вселялся дух боязливого Лепорелло, стала уменьшаться, а растерянность и неуверенность увеличиваться прямо пропорционально количеству шагов, оставшихся до двери соответствующего кабинета. Поднявшись на этот раз на третий этаж и найдя номер нужного кабинета, он не сел привычно рядом, на банкетку без подлокотников у облупившейся стены, а стал нетерпеливо мерить шагами узкий и короткий коридор. Время перестало широко шагать, а засеменило. Он тоже, двигаясь гуськом сам за собой, сороконожкой взад-вперёд, туда-сюда, положив руки в карманы, походкой этакого раздражённого московского стиляги, безуспешно пытающегося дождаться на свидание под городскими часами на площади жестоко обманувшей его случайной красотки.
– Входите! – услышал он ровно в назначенное время завораживающую и пугающую заодно фразу студентки Лидочки с параллельного потока только очень низким голосом.

