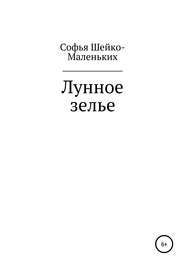 Полная версия
Полная версияЛунное зелье
Внизу – столовая; к вечеру там повисает поразительной силы и насыщенности аромат испорченных объедков и прогорклого масла. Как всегда, тут полумрак (ведь электричество дорого, экономия), склизкая лестница, замасленный пол. Когда на маленьком пятачке топчутся тысячи людей, там в любом случае будет грязно. Если эти люди по привычке плюют, сморкаются и бросают мусор себе под ноги, пол чище не становится. Даже если над ним стараются те, кто его моет – вернее, считают мытьём выливание на пол ведра воды и размазывание её по полу веником.
И перед финальным рывком до класса (еще пять минут до урока, можем спокойно переодеться, уф, кажется, успели) у самого подножья лестницы мне встречается мальчишка. Из какого он класса? Ах да, из пятого – отъявленно бандитского. Даже когда их рассадили поодиночке, получилось восемь унылых рядов, это все равно не помогло, они упорно стоят на ушах.
Короткий ёжик жестких стриженных волос стоит дыбом. По ним так приятно провести рукой. «Здравствуй, малыш!» Он, этот пятиклассник, ужасно неуклюжий, нескладно пухлый. На фоне худых как жерди одноклассников особенно бросается в глаза. Он хороший и живой, каким только может быть хулиганистый, еще не задушенный школой, непокорный и вечно фантазирующий мальчишка.
Я привычно нежно улыбаюсь на его громкое «Hello, teacher», и готова уже лететь вверх по лестнице. Но неуклюжий почему-то не уходит с пути. Я замираю: странно, мальчишки обычно не очень-то любят обниматься. Это забава девчонок – прихожу на урок, и на меня уже в коридоре летит пара любительниц тесных контактов. А в шестом классе, самом лучшем, стоит мне переступить порог, как ко мне маленькой рыбкой прилипает одна малявочка, крепко обхватив руками; я с ней провожу подготовку к уроку, мы вдвоём, как сиамские близнецы, степенно ходим с ней по классу; я уже привыкла к тёплому грузу сбоку.
Но мальчишки вряд ли полезут так сразу обниматься? Да, он и вправду не собирается. Замирает, жуёт губами; видно, как он пытается за ниточку выхватить слово, а потом громко и радостно вопит: «Tomato!» Ох, ну круто! Ещё одно слово запомнил. Горжусь тобой, солнышко, всё уже, дай мне пройти. И я уже несусь по лестнице; но с верхней ступеньки дочь начинает вопить: «Мам, посмотри, какая гадость – он всё прямо на пол вываливает! Почему?»
Я оборачиваюсь в замешательстве перед открывшейся мне картиной: белая форма летит прямо на грязный пол, за ней следуют в спешке выкинутый наполовину протёкший термос, слипшиеся пельмени, салфетки, пара огрызков карандашей, пакетик с неизвестным содержимым, блокнот, тетради, книжки с ободранными и загнутыми краями. Наконец с глубокого дна школьной сумки торжественно извлекается… помидор! Тот самый, о котором так громко и торжественно заявлялось в начале встречи.
Глаза мальчишки горят восторгом и гордостью – и обыкновенный предмет, пойманный сразу в двух измерениях, застигнутый в своей чуждой ипостаси, торжественно на маленькой пухлой ладошке презентуется мне. Время останавливается, я разделяю вдруг это чудо осознания многогранности мира и постмодернистской его относительности: для кого «помидор», кому-то «томато», а кому-то и вовсе «синьхуа линь»… Маленькая помидорка (кажется, у нас их зовут черри, сейчас здесь сезон и они продаются с грузовиков, мотоциклов и велосипедов вместе с персиками и арбузами: всё это китайцы считают фруктами, а такими маленькими помидорами даже украшают торты) красным пятнышком тихо греет мне сердце.
Я помогаю щедрому отважному рыцарю, гордому победителю языков запихать обратно разбросанный по полу школьный багаж. Вообще-то китайцы не кладут вещи на пол. Никогда. Пол же грязный. Мама мальчика, а особенно его бабушка, точно упали бы в обморок, увидев это. Пока они не пришли, мы заметаем следы преступления. Ну, в самом-то деле! Некуда же класть вещи было! По закону подлости очень нужный помидор оказался на самом дне сумки. А времени нет, надо спешить – я пролетала ведь уже мимо, вверх по лестнице, а ему так важно было поймать эту двойственность момента, похвастаться своими почти уже академическими знаниями.
Я очень рада, что дочь меня притормозила. И что я успела принять этот щедрый дар. Потом уже, когда дочь заскочила в свой класс, я вытянула ноги, сидя на стуле в коридоре и ощущая сладкий, чуть терпкий аромат помидорки, растаявшей во рту, – и размышляла о том, что вот ради такого, наверное, и работаешь. Чистое движение души, радость узнавания, опьянение открытием. Мне так хочется, чтобы мир этих детей не был плоским, чтобы они чувствовали множественность измерений и радость неожиданной встречи. В любом самом тёмном и грязном месте вдруг может зажечься маленький красный огонёк.

У-Фан
– А потом родители развелись.
– Ты, должно быть, очень грустила? – говорю я.
У-Фан, чуть улыбаясь, глаза широко открыв, глядя мимо меня:
– Вовсе нет. Так даже лучше. Пока они вместе были, всё время ругались, дрались…
Она моя студентка. Мы встретились с ней в обеденном перерыве и гуляем по стадиону, наворачиваем бесконечные круги за кругами (такой символ жизни в Китае – каждый день одно и то же, по накатанной колее, без серьезных изменений).
Вообще-то, это официальное время для сна. Студенты спят после обеда в своих общежитских кроватях. У преподавателей есть свои спальни – отдельная комната у каждого факультета: полутёмная, пыльные шторы плотно занавешены, казенный кондиционер работает на полную мощь: спать надо в тепле; ряды кроватей, с одинаковыми матрасами и подушками, как в детском саду. Собственно, дневной сон университетских преподавателей сильно напоминает мне времена детского сада. Только единицы спят по-настоящему, обычно это самые взрослые и многомудрые, остальные же только делают вид – тихонечко лежат под принесенным из дома одеялом и, например, шуруют в своем мобильнике. Взрослые люди, свободные вообще-то, вот так вот тихо прячутся от кого-то, делая что положено…
Помню, чуть ли не в самый первый мой рабочий день в университете моя куратор, отвечающая за учебный процесс, налетела меня с тревожным лицом и неотложным вопросом в глазах.
Поскольку я считаю, что мои собственные вопросы самые важные, то задаю их первая: расписание, наличие компьютера в классе, какие группы, их уровень и так далее. Всё это отметается единым махом: «О чем вы вообще думаете? Мы же самого главного еще не решили! Взяли ли вы с собой подушку? У нас в комнатах для дневного сна нет подушек»! Помню, как я тихо сползла по стенке, поняв, что за столько лет работы я так, оказывается, и не выяснила, что же главное в жизни преподавателя…
Ещё в садике я не спала днём, что было вечной мукой, основой противоречия с коллективом. Здесь, в Китае, мои студентки знают, что я не сплю днём, и те, кому очень надо поговорить, вот как У-Фан, тоже пропускают священный сон и встречаются со мной после обеда. Потому что знают также, что обедать я люблю одна. В тишине, одиночестве и спокойствии, что их тоже безумно удивляет, а первоначально и огорчало до слёз. Здесь считается, что есть в одиночестве – дурная примета, как в России пить в одиночку. Тот, кто ест один, – изгой, вышвырнутый за рамки приличного общества. Люди готовы пойти на что угодно, только чтоб не есть вне коллектива. Хотя одиночество в Китае, по крайне мере физическое, практически невозможно. Так что поводов для беспокойства совсем немного…
Другой день. Я сижу на корточках перед пушистым комком, то есть университетской дворняжкой, отдаю хлеб мягким теплым губам в маленьких волосках.
– У меня появилась собака, когда мне было лет 18 уже. Папа нашел. Помню, это было такое счастье!
У-Фан отвечает, грустно и очень тихо:
– У меня тоже была собака, в детстве. Мы жили в деревне с родителями. Она была чёрная. Маленький щенок. А потом она подросла, и родители её съели.
После нескольких минут тишины – жёсткая складка у губ, и такой отстранённый, железный почти голос:
– Когда у меня будет свой дом, там обязательно будет собака. И я никому не позволю её обижать.
Да, они до сих пор едят собак. Не везде, и уже не совсем легально. В принципе, увидев поедание или убийство собаки на улице, ты можешь обратиться в полицию. По идее, они должны будут как-то отреагировать, что-то сделать. Но, тем не менее, в далеких горных районах люди ещё точно едят собак. Зимой. Чтобы согреться. Есть такое поверье, что мясо собаки прогревает тебя изнутри. (Последняя дань любви маленькой волшебной души?) Есть даже одна провинция, где в двадцатых числах июня проводится праздник поедания собак. И туда идут машины, груженые связанными собаками, предназначенными на еду.
И я знаю, что есть также китайцы, которые едут в это время в эту провинцию: выкупают собак и увозят их к себе жить. Есть общества людей, подбирающих бездомных собак, лечащих их, ищущих им дом. Когда китайская мама (защищая, как ей казалось, ребёнка) в ресторане пнула маленькую собачку, в интернете развернулась мощная кампания в поддержку собаки, с осуждением женщины. Иногда мне кажется, что общество просто ждёт, пока вымрут все поедатели собак. Среди молодых это уже совершенно не принято, тогда как некоторые старики ещё делают это (в силу традиции ли, с удовольствием ли), а старшим противоречить тут не особенно принято. Можно, не вступая в споры, просто подождать, пока они все умрут…
А собаки, что ж, собаки родятся ещё. Иногда мне кажется, что местные жители считают, что собак так же много, как самих китайцев, и что эти существа такие же безликие, неотличимо похожие друг на друга. Студенты мне иногда представляются не по имени, а по номеру – так же, как китайским учителям. Их в школе тоже зовут по номерам, ведь учителю не запомнить все сто имен в классе, тем более, что и класс-то у него не один…
Вскоре это стало уже привычкой: после обеда я встречаюсь со своей студенткой. И мы тихо гуляем по университетскому подобию парка, кормим рыб, кошек, местную собаку, – и разговариваем.
Я смотрю на У-Фан внимательно. Длинные черные волосы болтаются по сторонам лица. Когда она ест, их приходится захватывать рукой, иначе они попадают в лапшу. Узкие глаза черны и молчаливы. Она не поступила. В смысле – не поступила, куда хотела. Не хватило пары баллов. Здесь это сплошь и рядом.
В конце школы студенты сдают всеобщий тест, вроде нашего ЕГЭ, и потом рассылают полученные баллы по университетам. Как правило, выбираются они по престижности, а не по специальности. Количество проходных баллов в тот или иной вуз заранее неизвестно, потому вы выбираете сразу из нескольких категорий – получше, попроще, и совсем из никудышных.
Потому что, хотя в идеале вы и должны были б закончить престижный университет, все же лучше вам поступить хоть куда-нибудь, но вовремя, как все, в тот единственный год, когда все сверстники идут в вуз. Потому что потом, какой бы университет вы ни закончили, вас могут не взять на работу просто потому, что вы поступили со второй попытки, на пару лет позже, чем все. Идеальный член общества должен быть строго организован и собран в нужные, решенные партией и правительством сроки.
И потому лучше какой угодно вуз, чем промедление, а уж о специальности вообще никто не заботится. Если в престижном вузе вы не прошли на выбранную вами специальность (скажем, переводчика), но проходите на другую в том же вузе, вроде инженера коммуникационных систем, то вы скорее туда, чем в другой, менее престижный вуз, но на ту специальность, которая вам интересна. Это не гипербола и не выдумка. Я лично знаю парня, который вместо переводчика пошел учиться на инженера. И я знаю, что таких очень много. В такой ситуации обычно принято смириться, продолжать дальше идти в нелюбимой, невыбранной специальности, профессии, работе. Главное – не отличаться от всех, закончить престижный вуз, неважно по какой специальности, в тот же год, в который заканчивают твои сверстники.
Надо чтобы все циферки в резюме совпадали, чтоб перед соседями не было стыдно, и родители могли похвастаться шестой двоюродной тетке и новой бухгалтерше на работе: «А мой-то закончил уже. В большом городе отучился, да…»
Но вот эта моя студентка, она упорная. Может быть, после съеденной собаки что-то лопнуло внутри. Появилось смутное ощущение, что правила – они побоку, жизнь не о том; а потому она упорно учила английский, как хотела, разузнала всё об экзаменах, сдача которых позволяет преподавать, как мечталось всегда. Несмотря на то, что она с факультета информатики и компьютерных сетей, познакомилась и подружилась с учительницей-иностранкой.
У-Фан сдавала экзамены за себя. Чтобы заслужить, заработать право быть учителем, особенно английского, надо пройти несколько видов экзаменов. Их сдают все студенты иностранных факультетов, но могут еще и просто желающие: если экзамен сдан, они потом тоже могут преподавать.
Сдавала экзамены за других. Есть здесь такая негласная практика, преподаватели делают вид, что о ней не знают, я не уверена, правда, насколько искренне. Впрочем, поскольку студентов по шестьдесят в группе, и этих групп на одного преподавателя восемь-девять, то особенно никто и не помнит, как учащийся выглядит, и уж тем более, как его зовут. Поэтому студент, успешный в каком-нибудь предмете, может за деньги или так ходить за другого студента сдавать его экзамены, делать за него доклады и презентации. Говорят, так можно делать даже на собеседовании и прослушивании на работу, особенно если идешь в большую компанию. Кто ж тебя там особенно упомнит, если кандидатов тысячи, и вакантных мест сотня…
Про неё, У-Фан, я знаю точно, что она ходила сдавать пару экзаменов и сделала штук семь докладов на английском. Она же мне их всех показывала, просила посоветовать что-то, одним словом – проводила последнюю репетицию с настоящим зрителем.
Я знаю, что она не упускала любую возможность попрактиковать, попробовать, вместо своих нерадивых, ленивых, инертных сокурсников делая доклады и выступления. Не ради благодарности или выгоды, хотя и для этого тоже: папа одной девочки помог закрыть бумагу о практике.
(Эту практику У-Фан нашла по душе, как хотелось всегда. Преподавала английский в глухой деревенской школе. В столовой вечно одна капуста, курица только по четвергам. Старая, поседевшая, в кудряшках, голова поучающей ведущей учительницы слегка дрожит. У неё к практикантке тысяча претензий по методике. А в душе проходящей практику девочки – удивление и тихое смятение, оттого что умудрённая опытом, награждённая орденами и регалиями, многократно заслуженная учительница совсем не говорит по-английски, вообще не знает ничего… Но такая практика не считается.)
Нужен был колледж, и в нём компьютерная наука, то есть та самая невыбранная специальность, нелюбимая, на которую хватило баллов. И вот тогда-то папа знакомой, с чьей с презентацией выступила У-Фан, пишет свою замечательную справку. Слава богу; ведь казалось, что всё уже потеряно, потому что в университете потребовали за три дня предоставить документ с правильной практики, а иначе диплома не видать…
Как правило, эти её презентации и выступления, доклады и рассказы – больше для упражнения. Для ощущения языка, чтоб слышать себя немного, чтоб видеть отблеск понимания в глазах других, хотя у большинства там просвечивает лишь скука.
Потом У-Фан предложили от вуза поехать в Австралию. Идея всё всколыхнула в душе, но родители, как всегда, глухо: «Зачем это тебе? Дорого слишком. Ни к чему». Университет оплачивал лишь часть расходов; а они, и верно, вырисовывались немаленькие.
И, как уже случалось часто, У-Фан опять пожаловалась мне. Почему-то так бывает. Почему-то часто налетают на меня мои студентки, бывшие и настоящие: в глазах растерянность, губы дрожат. «Я поссорилась с соседкой по комнате…» «Моя мама заболела…» «Боюсь экзаменов…» «Не хочу работать учителем…» «Что делать?» У меня десять минут перерыва; надо ещё попить чай, позвонить мужу, поболтать с коллегой и другом. Но нет; всё отменяет отчаянная то ли надежда, то ли беспомощность в смотрящих на тебя глазах.
Она тоже в сердцах сообщила всё мне. И я задумалась, впервые чувствуя, что, может быть, хоть здесь смогу как-то помочь. Муж придумал выход: мы позвали У-Фан с собой на каникулы. Не в Австралию, конечно, всего лишь на Филиппины и в Малайзию, но для неё это – первая заграница в жизни, поездка вовне, в открытый космос, о чём даже и не мечталось. Тем более, что в странах, куда мы ездим, говорят по-английски. И в отелях, парках, самолётах, полно иностранцев, вполне готовых поболтать. Да и с нами, попутчиками, придётся говорить по-английски. Всё время. Итак, поехали.
После недели мучений, когда У-Фан смертельно, до слёз хотелось бросить всё к черту и рвануть домой, назад к любимой лапше, понятным ценам, привычной одежде… После ностальгии к ней вдруг пришла лёгкость. Вдруг оказалось, что можно спокойно читать газеты и смотреть фильмы, краем уха слушать разговоры соседей в автобусе, а заблудившись, узнавать дорогу у полицейского.
Да-да, она даже заблудилась в последний день. В большом городе Куала-Лумпуре. Один раз нечаянно, второй раз нарочно. Поздно вечером. Чтобы вдруг испытать пьянящее чувство свободы: понять, что ты большой, что ты можешь!
Первый раз У-Фан потерялась днём, разминувшись с нами на большом рынке. И очень сильно удивилась, что нашла дорогу в отель, что смогла, даже страх поутих. И тогда в тот же день, только уже вечером, по свежим следам, пока не скинула норовистая лошадь, она ушла на ночную прогулку по полуспящей столице Малайзии, где живут заморские китайцы. У них несовременный язык и странные привычки. Они искренне ходят в храм и там поют, улыбаясь друг другу.
«Такого нет у нас в Китае», – говорит она мне, а потом, уже по возвращении домой её накрыло вдруг осознанием: она впервые заметила храм на привычной улице. Люди в её собственном городе, так же, как заморские китайцы или странные филиппинцы, тихо стоят, губы шепчут, мысли далеко, глаза смотрят в другой мир, дым от свечей или благовоний медленно поднимается в небо, ветер слегка играет им… Оказалось, всё это было и здесь тоже, совсем рядом.
Вспомнился У-Фан как-то остро вдруг странный старичок на горе; он дружил со своей собакой. Над ним смеялась вся деревня, потехи ради кидая камни в его старого пса; а старичок прибегал, сердито выкрикивая что-то полубеззубым ртом, и хватал свою собаку, подставляя уже собственную худую изломанную спину под камни, уносил своего раненого зверя, выхаживал его… Что-то увиделось знакомое: какие-то слова тот старичок говорил так же, как заморские китайцы.
Теперь по дороге от дома на автобусе в город и университет ей всегда видится этот храм, тихий дым, независимо, упорно, уверенно и свободно поднимающийся от благовоний.
Потом к У-Фан пришло вдруг решение: я уеду работать в большой город на берегу тёплого моря. Недовольные, разочарованные взгляды родителей. «Мы всегда знали, что ты не получилась, что ты идиотка, позоришь семейство У. Но не до такой же степени! Тетя Лю Е уже приготовила тебе местечко в своей компании, дядя Ян Бо уже готов найти жениха…»
Что ж, пусть. Ещё больше холода в глазах соседей, кузенов и племянников, их тихих шёпотов за спиной. Не привыкать. В университете всегда было так же. Однокурсники, даже соседки по комнате, почти открыто смеялись: зубрилка, ничего у тебя не выйдет, нельзя идти поперёк судьбы, ты ни на кого не похожа, у тебя нет пути и дороги, ты всегда будешь одна… Пусть так, решила она, я так хочу. Хочу слышать шум волн; видеть, как солнце золотит неспокойную поверхность воды; слышать разную речь, встречать неправильных людей.
И завести собаку.
Русская долина
Китайский сентябрь дышит жаром. Прямо в затылок и в нос. А ещё он дышит подгорелым кукурузным маслом и жареной рыбой из распахнутого соседского окна. Он пахнет слегка забродившим виноградом, который задумчивый сосед-старичок выбросил с утра на асфальт из окна верхнего этажа. Дворник ещё не приходил, так вот этот виноград и лежит, источая тленный аромат.
И все-таки, даже несмотря на толпы китайцев, прогуливающихся в паре шагов, я очень люблю это место: наш балкон, он же крыльцо. Это мое тихое вдохновляющее уединение, моё тайное убежище, отдохновение дня.
Мы живем на первом этаже, окна выходят на маленькую полянку с памеловыми деревьями. Весной они цветут большими белыми бутонами и пахнут сладко и нежно, напрочь заглушая всё остальное. К сожалению, за полянкой сразу расположена спортивная площадка примерно той же степени новизны, что и наш дом. То бишь ей лет семьдесят; а потому все её полтора тренажера неимоверно скрипят и завывают при малейшем движении – как, должно быть, завоют и мои кости, если я когда-нибудь вздумаю этими железяками пользоваться.
Но мне некогда упражняться; так что ржавые конструкции с утра и до вечера оккупированы местными старичками и старушками, размахивающими конечностями и остатками спортинвентаря решительно, с остервенением и маниакальностью безумцев. Поэтому к незабываемым запахам сентября прибавляются скрип и скрежет.
И всё же прямо вдоль окон первого этажа, мимо кабинета и веранды, идёт наше крыльцо, оно же балкончик. Его преимущество помимо длины ещё в ширине перил, отделяющих пространство балкона от дорожки у нас под окнами. Когда-то эти перила соединялись с полом замысловатыми витиеватыми изгибами; сейчас же там куски арматуры, остатки бетона и кружево задумчивых пауков, остатки коконов цикад и неведомых мне южных насекомых. Но вот верхняя часть перил осталась прежней, то есть по-советски помпезно-широкой: вспоминается Московский проспект, здание со шпилем, сталинские многоэтажки возле Парка Победы.
Вот на этих перилах – мой тихий мир, воплощение мечты и тайная обитель. Утоли моя печали. Там в сорока восьми горшках растут мои цветы. Найденные на помойке, выкопанные у реки ещё пять лет назад в маленьком, пыльном и сумрачном промышленном городишке; какие-то куплены уже здесь, в Наньчане, в манящих зазывно зеленых лавочках: с получки, премии или просто по причине хорошего настроения. Хотя найденные на помойке всё же преобладают.
Обычно цветам тоже нравится балкон, и они пышно и вальяжно раскидываются в своих горшках, наливаясь соком и цветом. Но на время каникул, каждые четыре месяца, мне приходится их бросать. За время жизни в Китае я пробовала уже оставлять их соседям, коллегам по работе, знакомым иностранцам. Результат был один: все они (цветы) подчистую сдыхали. Так что теперь они ждут меня дома, расставленные во всевозможных тазах, кастрюлях и вёдрах, наполненных водой.
Естественно, такое времяпрепровождение цветам нисколько не нравится. Но то ли они притерпелись за эти четыре года уже, пятый пошёл, то ли просто остались самые живучие, но моим цветам удаётся как-то зимой и летом пережить без меня два месяца отпуска. По возвращении обратно я полдня трачу на то, чтобы перетащить все свои горшочки, бутылочки, ведёрки и тазики обратно на улицу, расставить на перилах, полить, взрыхлить, обрезать и прополоть.
Постепенно цветы приходят в себя, очухиваются после полуобморочного состояния, и даже начинают расти, цвести и колоситься. И я тихо кайфую каждый день, перед работой на бегу обнимая их взглядом, быстро пробегаясь по их разношерстным рядам, упиваясь их сочным глубоким цветом и бесшабашной радостью, с какой они встречают новый день. По вечерам я пою их водой, наблюдая, как устало и жадно они глотают, иногда отпыхиваясь и захлёбываясь, купаясь в последних лучах заходящего солнца или задумчиво поблёскивая при свете высоких звёзд.
Ещё я очень люблю выходить к ним по вечерам, совсем поздно, уже ближе к полуночи, когда большинство громкоголосых суетных соседей уже давно спят и я могу просто смотреть на далёкое плоское небо, яркую луну и мерцающие звёзды, чувствуя себя в надёжных и мягких объятиях. Потому что, если сразу после отпуска я за ними приглядываю, и выхаживаю их после обморока, то уже через пару-тройку недель я начинаю сама чувствовать их мощную крепкую защиту и, выходя на свой балкончик, ощущаю себя в их крепких объятиях, укутывающих меня от глаз посторонних, любопытства соседей, тревог о будущем или печали о прошлом.
Цветы становятся моей невидимой стеной, так что я могу даже посредине дня выйти на балкон, и пара сотен снующих мимо китайцев меня даже не заметит. Но что бы это все сбылось для начала каждый раз после возвращения из отпуска, наполненная еще шумом морских волн и разочарованием от приезда на работу, я должна сначала их всех вытащить на улицу, подрезать, прорыхлить, и много чего еще.
И вот, когда я в один из первых дней после приезда колупалась в своих горшках, на тот момент наполненных лишь жалкими пеньками, огрызками былого великолепия, прямо над своим ухом я услышала бодрое приветствие на русском языке: «Раствуйте, дорогой товарисч!»
Ну, теперь-то я к этому уже привыкла, теперь-то меня уже не прошибает холодный пот и не закрадывается мысль, что мне точно пора в сумасшедший дом. Но когда я услышала это обращение впервые, поплохело мне здорово. Это было в холодный, по-настоящему осенний день, когда хмурый ветер возил по улицам ссохшиеся листья и очистки банановой кожуры, а мы с дочкой занимались постановочной фотосъёмкой для реферата по физкультуре. Ездили на роликах и думали, как бы это поинтереснее обставить, и при этом не расквасить ребенку нос. И тут, прямо из-за спины, таким бодрым, невероятно советским голосом, как из динамика Совинформбюро, на меня вывалилось всеми совиными формами: «раствуйте, дуругой товарисч», и спустя еще пару минут: «Даз раствуйет краснайа коммуна!»

