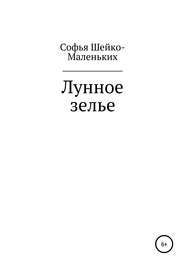 Полная версия
Полная версияЛунное зелье
Какой смысл возвращаться, если больше некуда? Если все, что у него есть: его страна, его приятели-друзья, курлыкающие журавли и блестящие воды, живёт теперь только в его воспоминаниях, оживают только если крепко-крепко закрыть глаза.
А еще почему-то ему казалось, что пока он не видел той дороги, того холмика, оставшегося на месте блестящей зачарованной воды, то остается еще какая-то надежда, еще можно сделать вид, притвориться что не знаешь, не понял. Поэтому, скорее всего, он не вернется туда никогда, чтобы еще можно было на что-то надеяться.

Гармония масс
Помню, когда читала про Китай – в числе прочего, ставившего меня в тупик, была теория гармонии масс. Когда китайцы пытаются сформулировать разницу между картиной мира их самих китайцев и всех остальных, то одним из обязательных пунктов будет «гармония масс», наблюдаемая у китайцев и кардинально отличающаяся от индивидуальной гармонии разных других национальностей.
Я всегда с возрастающим раздражением воспринимала эту гармонию как превалирование общего над частным, как полную победу коллектива над личностью. Постепенно у меня из ушей начинал идти пар, и я скорее забрасывала дальнейшие размышления по этому поводу. И вот только совсем недавно, гоняя на велосипеде по городу, я начала кое о чем догадываться…
Наверное, вы никогда не поймете настоящий Китай, не почувствуете его скрытую сущность, не проникнетесь уважением к нему, если не прокатитесь на велосипеде по улицам. Со стороны это кажется чистым безумием: сотни тысяч велосипедов, мотоциклов, машин, жуткий шум, невообразимая грязь. Нет никакого четкого плана, нет понятных правил, все, казалось бы, отдано на волю чистой случайности и полного произвола.
Я три года не решалась сесть здесь на велосипед, и даже сев на него, была полностью уверена, что окажусь если не раздавленной, то уж точно покалеченной максимум через полчаса езды; что никакого удовольствия нет и быть не может от движения по забитыми потоками людской массы грязным, пыльным, раскаленным от солнца улицам. И что итогом такого «передвижения» будут непрерывное раздражение, сорванный в ругательствах голос и испорченное настроение.
И вот, только уже оказавшись в этой толпе, подхваченный её безумным потоком вдруг понимаешь – вот это и есть гармония масс. Если посмотреть на каждого отдельного участника процесса (старый дед на проржавевшем велосипеде с корзиной квохчущих куриц на багажнике; работяга средних лет на мотоцикле типа «Урал», с притороченными к рулю железными трубами, торчащими в разные стороны, как иглы у дикобраза; задумчивый таксист, высматривающий что-то в своем мобильном телефоне, по ходу бездумно поворачивающий руль движущейся машины; худенькая девочка в очечках на арендованном типовом велосипеде, старательно объезжающая лужу, озабоченная первозданным цветом своих колготок; большая веселая семья, пять человек на одном мотоцикле, причем младший ребенок сидит прямо под рулем, меж ног родителя на складном стульчике), то каждый из них по отдельности как участник дорожного движения – это катастрофа. А все вместе они – это часть той самой гармонии масс или, как китайцы называют это иногда, «упорядоченный хаос».
К примеру: едет мужчина на мотороллере: у моего деда в деревне такой был, годах в 1980-х, и тогда уже был старомоден этот грохочущий громыхающий монстр. За ним кузов, груженный чем-то объемный и лохматым, торчащим во все стороны. Водитель этот старательно смотрел вбок и совершенно ничего не видел перед собой, а ехал он в самую гущу потока, причем, естественно, против течения, то есть в лоб всем проезжающим.
Я даже зажмуриться не успела от предстоящего столкновения, но случилось чудо – поток людей-машин-велосипедов раздвинулся, и все они, наездник музейного мотороллера, задумчивый таксист и большая китайская семья, вписались совершенно спокойно. При этом ни один из участников движения даже не поморщился. У нас же гармония, и коллектив как единый организм принимает и направляет каждого отдельного участника. Я потом специально стала приглядываться. Это не так уж и сложно оказалось, учитывая, что я и сама большей частью представляю угрозу окружающим, так как до недавнего времени ездила на высоком тяжелом велосипеде мужа с гигантской рамой и потому не всегда могла справиться с управлением или вписаться в поворот. Поток вокруг меня на секунду притормаживал, тихонько и легко приноравливался, и все мы вновь могли спокойно и сосредоточенно продолжать свой путь.
Надо сказать, я крайний индивидуалист. Мысль о любых действиях в коллективе, в одно и то же время и в одном направлении с общественными массами, приводит меня в дикое уныние и тихое, но яростное бешенство, постепенно перерастающее в истерику. И тем не менее я ощутила прелесть существования в таком думающем, осмысленном и самоорганизующемся пространстве коллектива, когда наши пути с ним совпадают.
Иногда я даже понимаю, что скучаю уже по этой гармонии хаотического движения, молчаливого, но такого понятливого людского потока. Он отражает идею социального равенства, потому что в потоке важно лишь движение, а не отдельные его единицы, и посему машина уступает дорогу велосипеду, грузовик притормаживает, чтобы пропустить мотоцикл, личные интересы ничто перед волей коллектива, и потому, если так нужно для непрерывности движения, все немного притормозят, дадут рассосаться назревающей аварии, пробке, катастрофе, и спокойно поедут дальше.
Надо иметь в виду что личное пространство у китайцев отсутствует. Дома всегда были маленькие, жило в них много народу, так что большинство дел, таких, как стрижка ногтей, питье чая, варка пельменей и игра в карты, происходит на улице, на тротуаре или, если такового нет, прямо на дороге, среди снующих машин. Конечно, теперь, в силу постоянно растущего благосостояния, все чаще появляется подобие дома, квартиры для одной семьи (а не клана родственников), хотя непонятно, что с этим самым пространством делать: в домах холод, грязь, горы мусора и плесень. Исторически, видимо, взамен личного пространства у китайцев всегда было общественное, вот и теперь государство, его ответственные работники организуют пространство коллектива: набережные, площади и парки, беседки, клумбы, парящие в гордости за свою страну развевающиеся красные флаги.
Таким образом у граждан не возникает необходимости и даже потребности в организации своего личного пространства – гораздо проще и удобнее воспользоваться уже готовым, а то, что там толчется вместе с тобой еще тысяч десять человек, совершенно никого не смущает. Скорее наоборот: чем больше народу, тем более правильные вещи ты делаешь. (Мои студенты рассказывали мне не раз: если ты один – это очень плохо, значит ты изгой и занимаешься чем-то противозаконным. Лучшие люди всегда как все, всегда в массе, и либо следуют непреложным примерам, либо сами являются таким примером для окружающих.)
Опять же – когда человек пользуется уже готовым концептом им гораздо проще управлять, потому китайскому (равно как и любому другому) государству совершенно не выгодно поощрять индивидуализм где бы то ни было, даже в оформлении собственного жилья, гораздо продуктивнее, если гражданин будет воспринимать свой дом как временное пристанище для сна, ну и чтоб дождь переждать, а истинная его жизнь будет происходить вне стен родного дома.
Само понятие уюта иногда кажется здесь в Китае чем-то из словаря иностранных слов и выражений. Тускло светит дешевая лампочка, капает непочиненный кран, мусор все соседи вываливают прямо себе под окна, напротив в доме устроен ремонт и отбойным молотком сносятся капитальные стены.
(Как-то раз мы жили в университетском общежитии для преподавателей; там сносили все стены на первом этаже и строили ресторан, и все это длилось месяц; и хоть мы жили на третьем этаже, тряслось все, и не было слышно ни слова, даже если орать друг другу, даже если пытаться слушать музыку в наушниках.)
Окна, двери вечно распахнуты навстречу всем ветрам, во дворе грязь и битые бутылки, на подоконниках в лучшем случае растут огурцы. (Я уже пять лет живу в Китае и ни разу не видела, чтоб хоть где- в частной квартире росли цветы! Только то, что можно съесть). А как правило там могут валяются старые носки вперемешку с трусами, в домах побогаче какие-то недовыкинутые коробки, груды белья, полотенец, в домах победнее – старые недомытые кастрюли и большие бутыли из-под подсолнечного масла.
А ведь сердце человеческое тоскует по гармонии, вот китаец и тянется к коллективу, вот и стремится жадно хоть к какой-то гармонии –пусть коллективной, другой то нет – дома холод и грязь или просто пусто – скучно – безлико…
Интересно, что даже в организации пространства можно найти проявление всеобщего равенства. Неважно, в домах какой степени достатка вы окажетесь. У моего ребенка есть подружка – дочка уборщицы, и там вся семья, человек шесть-семь, живет в полуподвальной комнате, заваленной грудами мусора. Но мы бывали и в новых, элитных квартирах в престижных кварталах, видели жилища бизнесменов и начальников. Там уже может быть комнат семь-восемь, и этаж может быть какой- двадцать девятый, и вид из окон от пола до потолка открывается на город, пруд, парк, мосты; и тем не менее все то же: по углам мусор, посреди комнаты могут стоять разломанные аквариумы или покосившиеся столы, невыкинутые коробки; и тот же холод, тусклый свет.
Такое неуютное чувство, как будто ты на вокзале, в бараке, как будто жильцы только что въехали или собираются переезжать.
Совершенно незаметно, что люди чем-то пользуются в своем доме, пользуются любя и с удовольствием. Кажется, что квартиры обставляются не для себя, а для стороннего внешнего наблюдателя, некой комиссии, которая придет с проверкой и учтет количество единиц мебели, положенных вам по статусу – чайных столов, кресел, тумбочек, этажерок, а если вы относитесь к высшей категории людей, то еще и книжных шкафов. Правда, не всегда понятно, что в этих шкафах, и буфетах хранить, и потому часто они просто стоят пустые, или завалены нераспечатанными коробками, свертками. Все очень холодно и формально: если вещь старится, через год-другой её просто выкидывают и заменяют на другую, практически такую же, неотличимую от предыдущей.
Да, именно так: если вещь устаревает, от неё просто избавляются. Например, в современном Китае вы уже попросту не найдете спички или маленькие мобильные телефоны, в которых нет интернета. Невозможно объяснить, что ты хочешь продолжать пользоваться этой вещью, и не потому, что у тебя нет денег на новую, а потому, что ты к ней привык, у тебя с ней связаны воспоминания. Потому что ты просто любишь эту вещь и сам вид её или фактура радуют тебя. Мне иногда кажется, что радость китайцам приносит только видимость чего-то: фотография себя в окружении знаменитых людей, дорогой обстановки, за рулем престижной машины. Опять же, содержание, наполнение видимой оболочки регулируются не индивидуумом лично, а общей массой коллектива, параметры картинки задаются модой и голосом среднестатистического разума, которые по всему Китаю едины…
Кстати, личного времени здесь тоже нет, есть только вечное время коллектива, нации, истории. Это как раз то, что безумно бесит в китайской жизни практически каждого приезжего. Никто совершенно искренне не предполагает, что у вас могут быть дела в свободное от работы время, что для не-китайца крайне сложно и некомфортно перестроиться прямо на ходу. Например, придя на работу на два урока, вдруг обнаружить что у тебя их сегодня четыре, а потом торжественный прием в ресторане с боссом. Все может быть и ровно наоборот: ты предполагаешь провести четыре пары, настроишься на полный рабочий день, приходишь в университет, и только тут выясняешь, что у студентов спортивная подготовка, уборка территории, выступление народных коллективов – и потому сегодня занятий не будет вовсе. Да и завтра, кажется, тоже.
Мой муж просто белеет от ярости в такие моменты, и я знаю, что у нас в университете его уже немного побаиваются. Последний раз он сердился из-за «внезапно и непредвиденно» обрушившейся на всех нас военной подготовки. Вообще-то, она проходит каждый год, но все, видимо надеются, что в этот раз пронесет; и когда не проносит, то ошалело разводят руками и говорят «сорри, занятий таки не будет». (Вроде как «а все так надеялись!»)
Так вот, когда я последний раз встала в шесть утра, потратила час на дорогу и обнаружила пустые классы и бледную от ужаса лаборантку, пытающуюся оправдать отсутствие студентов, а также непредупреждение об их отсутствии, то я услышала, как она тихо, почти одними губами, шепчет себе под нос: «Господи, какое счастье, что это не ваш муж сегодня работает».
Иногда тебе могут позвонить вечером и сообщить: «завтра вместо занятий университет везет вас на три дня на экскурсию в горы». И когда ты ошалело отвечаешь, что у тебя на завтрашний вечер планы, которые невозможно отменить, университетское начальство смертельно обижается и считает это глубоким пренебрежением.
Нет никакой возможности уговорить китайских коллег или начальство предупреждать вас заранее, хотя бы за пару дней, о резко надвигающихся китайских праздниках. Как правило, до последней минуты никто не знает о ближайших выходных. Это кажется вопиющим издевательством, пока не вспоминаешь про гармонию коллектива: личного времени, интересов и планов нет, все растворено в потоке, индивид лишь лавирует в сложившихся обстоятельствах.
Из отсутствия собственного времени логически вытекает полное отсутствие планирования.
Такое впечатление, что ни один житель страны не имеет хоть подобия плана на ближайшую неделю или хотя бы на завтрашний день. И только имея перед глазами картинку постоянно движущегося автомобильно-велосипедного потока, а в голове теорию гармонии масс, вдруг начинаешь понимать логику такого положения вещей. Это ж как на местной дороге: у тебя просто не может возникнуть никакого плана из-за огромного количества непредсказуемых участников движения, каждого со своей траекторией и скоростью. Ты просто решаешь задачи по мере их поступления, просто каждую секунду выбираешь наименьшее из зол, так что пока у тебя нет заранее определенного плана, как проехать по этой улице.
И даже приблизительно себе не представляешь, сколько это займет у тебя времени. В твоей голове есть только очень общее представление о конечной цели твоего пути. Зато каждый отдельный нарушитель твоего продвижения (их не десятки, и даже не сотни, а тысячи) не будет вызывать в тебе агрессии и раздражения. Ты же ничего не планировал, потому и разрушать, нарушать им нечего. Любая возникшая в такой ситуации проблема становится общей, она постепенно и равномерно решается усилиями всех участников. А потому среди них, как правило, нет злобы. Людская масса как живая стена: когда нужно, мы вместе раздвигаемся и решаем общую проблему.
Поражает это равнодушное отсутствие эмоций. Принципиальная не-раздражительность. Я даже специально проводила такой эксперимент: если долго смотреть на кого-то, тебе обязательно улыбнутся в ответ. Может быть, это распространяется только в ответ на взгляд иностранца, но действует железно. Независимо от возраста, пола или социального положения человека, на которого ты смотришь, через некоторое время тебе обязательно улыбнутся в ответ.
Конечно, улыбка может быть озадаченная, вопросительная, открытая, сдержанная, настороженная, но это все равно улыбка. И совершенно не важно, смотрите ли вы на деревенского или жителя огромного мегаполиса, утром или вечером, зимой или летом…
Безусловно, эта приветливость может оказаться очень обманчивой. В Китае у вас все хорошо, только пока вы двигаетесь в общем русле. Стоит только выбиться из мейнстрима, и вас моментально перестают замечать.
Например, очень многие вещи здесь рассчитаны на китайский внутренний паспорт. Это такая карточка размером с банковскую, и ты можешь прикладывать её к разным считывающим аппаратам, чтобы заказывать заранее по Интернету билеты на поезд, концерт или самолет. Можешь брать напрокат велосипед в любой части города, или с легкостью где угодно заводить себе карточку любого банка, можешь много чего еще. Но если у тебя такого удостоверения нет – ты просто перестаешь существовать.
Большинство чиновников откажутся с тобой просто разговаривать. Чтобы быть человеком и принимать участие в увлекательной гармонии масс, тебе надо сначала стать частью этой массы. Если ты по каким-то параметрам из неё выбиваешься – то просто выкидываешься из общего потока, тебя вычеркивают из списка существующих и радостно выкидывают из головы. Переиначивая «кто не с нами, тот против нас», мы получаем здесь «кто не похож на нас, тот не существует». Ничего не поделаешь….
Самое печальное, что в какой-то степени я даже понимаю эту логику. Ну, вот представьте: у вас в классе 56 человек. И на них, вместе взятых, у вас 90 минут времени в неделю. И вы должны их хоть чему-то научить. Хоть чуточку. И вот, если один из ваших студентов отчаянно заикается и ему, чтобы сказать что-то, нужно не две минуты, как всем, а пять – будете ли вы его спрашивать? (Представьте, что вы учите студентов устному предмету, и предполагается, что хоть пару раз за семестр вы должны послушать хоть немного, но каждого студента.) А если другой студент немного притормаживает и прежде чем начать отвечать, обычно минуты две просто молчит, обдумывая ваш вопрос? А если еще одна девочка в большой темной оправе, вечно сидящая на задней парте, с большими зубами и грустными лошадиными глазами, ужасно боится внимания, и вообще не может говорить от смущения? Если её голос при ответе – это еле слышный шепот, и каждый раз вы ставитесь перед выбором – пытаться ли услышать её или занять чем-то остальных 55 человек, которые ждут внимания тоже? Кажется, ответы в этой ситуации напрашиваются не самые утешительные, да?
Такая вот гармония масс. Эта теория, кстати, прекрасно работает в классе, и прекрасно объясняет, почему умные студенты тихо сидят без ответа: чтоб не выпендриваться излишне и не выделяться из коллектива. Почему хороший студент усиленно пишет работу или подсказывает невыносимому тупице за соседней партой?
Чтоб общий коллектив класса имел хорошие баллы, чтобы вся масса студентов производила благоприятное впечатление на преподавателя и у деканата не было проблем с неуспевающими. Для некитайского склада ума это кажется чистым безумием, но, черт возьми, именно так и есть…
Медвежонок с негнущейся лапой
Как-то раз в одной большой и не очень теплой стране жила семья: муж, жена и ребенок. Не слишком тяжко и не очень легко, работая зимой и отдыхая летом – они просто жили, стараясь в свободное время радоваться друг другу. А потом где-то на дальней границе началась война. Не то чтобы громко и трагично, не то чтобы официально и с бодрой или траурной музыкой, но со всеми неизбежными последствиями: убийствами, смертями среди личного состава и мирного населения вверенной территории и общим экономическим ухудшением ситуации. Проще говоря, печалью и бедностью.
Той семье, жившей в этой стране, очень уж не хотелось жить в печали и бедности, и отправились они куда глаза глядят. А глаза глядели в тот раз на Китай. А поскольку времени на сборы и выборы у них особенно не было – то отправились они на первую попавшуюся работу. А работа была в детском саду в одном маленьком промышленном городке.
В том городе было много рек. Они оплетали его извилистой сетью, неся мутные зеленовато-коричневые воды к далекому, из этого маленького городка казавшемуся несуществующим океану. Одна река бежала недалеко от дома, где поселили семью. По берегам реки шла деревянная набережная, и когда выглядывало солнышко, маленькая дочка носилась по теплым деревянным доскам, громко топая босыми пятками. Муж с женой только тихо щурились на реку, вбирая в себя тишину и покой, неожиданные после криков детей в садике.
Через реку перекинулось много мостов, двухэтажных и обыкновенных, подсвеченных по ночам, с огромными фонарями и прожекторами по бокам. Мосты хоть и отличались один от другого, все равно были неуловимо похожи, как будто близнецы, и ощущение гнетущей одинаковости, неизбежного давящего повторения, железной хваткой сдавливало сердце. Но один мост совершенно не походил на другие. Был он старинный, восстановленный, как был тысячу лет назад: понтонный. Большие связанные между собой бревна лежали на длинных остроносых лодках. Вся эта хитрая конструкция была прочно закреплена железными тросами, и только слегка покачивалась на волнах. Семья очень любила гулять по этим пахнущим подмокшим деревом греющимся на солнышке бревнам, хотя муж и боялся порой, что дочка свалится в воду, уж очень быстро она носилась.
Когда наступила зима, полуголые пожилые китайцы начали нырять с того понтонного моста, занимаясь странным спортом – плаванием в холодной воде с поплавком, привязанным к шее. Китайская медицина не одобряет купания в теплой воде жарким летом, контраст температур должен быть незаметен.
А потому, согласно древней китайской традиции плавать лучше всего холодным днем в холодной воде. (Вероятно, поэтому большинство китайцев вообще не умеет плавать.)
Рядом с другой рекой, чуть подальше от первой, расстилалась большая центральная площадь. Там обычно сосредоточенные старички лупили бичом по волчку, чтобы он крутился со свистом, или запускали полосатых целлофановых змеев, гордо и задумчиво глядя ввысь, лишь натянутую веревку держа в осторожной руке. Старушки размахивали розовыми веерами в такт заунывной музыке, а дети носились с тонкими и очень длинными ленточками, легкими язычками пламени бьющимися им вслед. А еще там был парадный мавзолей, уменьшенная копия Китайской стены и памятник мудрой исторической черепахе. И все это окружено маленькими огородиками – разномастные палки воткнуты кое-как в тугую глину, и по ним неуверенно вьются огурцы и фасоль, а в промежутках между косоватыми грядками пробиваются жидкие перья чеснока и лука.
В детском саду выделена специальная парадная комната для собраний, которые проходят еженедельно. Огромный длинный стол, множество пустых стульев (лишние на случай гостей), на стенах в рамочках висят мудрые изречения не то Мао, не то Конфуция. Из трех парадных, в золотых рамах, настенных часов ни одни не работают.
И каждый день происходит торжественное поднятие флага – все собираются на балконе, солнце светит, маленький ребенок носится кругами с бубном в руках, орет и грохочет, почти заглушая торжественную патриотичность речей. Рядом с флагштоком мирно сушатся кружевные лифчики и разноцветные трусы.
Вставать приходится рано: женщина уходит первая, когда за окнами еще темно. В её обязанности входит стоять у открытых дверей детского сада и оптимистично, бодро встречать входящих детей. К удивлению своему женщина отмечает, что лишь некоторые дети рыдают при расставании, а многие родители приходят по-простому в пижамах.
Утренние обязанности, как и само вставание, становятся невыносимо трудными, когда наступают холода. Происходит это в один день: вчера еще светило солнце, люди ходили в кружевных рубашках, а сегодня уже небо затянуто тучами, моросит дождь и холод пробирает до самых костей даже сквозь несколько свитеров. Поэтому утром, выползая из постели и стараясь как можно дольше не разжимать глаз, женщина натягивает на себя всю одежду, которую они взяли с собой, но и её оказывается недостаточно. Могильный холод плотно обнимает тело, поселяя серую грусть на душе.
Женщина давно забыла, как улыбаться своему отражению в зеркале. Во-первых, потому, что улыбаться особенно нечему: в кучах разномастной одежды, надетой одна на другую, кто угодно будет похож на пугало. Во-вторых, зеркала в их квартире нет. Чертыхаясь, она надевает большие старые стоптанные ботинки: женская обувь её размера в той стране не продавалась, и потому приходилось донашивать старую, привезенную с родины.
И, стиснув зубы, шла на работу, отсчитывая каждый последующий забор, неизбежно приближающий её к месту ежеутреннего стояния, пропитанного ничем не выводимым вечным запахом нелюбви и неприкаянности казенного заведения, под неизменную одинаковую бесконечно, до умопомрачения повторяющуюся бодрую музыку: «Раз, два – я вижу яблоко! Три, четыре – оно красное! Раз, два – я вижу яблоко…» И так до потемнения в глазах.
Чуть позже, тоже сжав зубы и посерев от злости, приходил муж. Он приводил с собой их маленького, невыспавшегося, лохматого и рыдающего ребенка. Девочка не умела вставать рано. Не привыкла рано ложиться, и вообще обычно проводила время если не с мамой и папой, то уж по крайне мере с бабушкой. Ребёнок никогда до этого не ходил в садик. И нахождение в казённом пространстве практически весь день невозможно огорчало его. Особенно в холодную погоду.
А холод был везде. И в доме, и в магазинах, и на улицах, и в садике. В классах тоже было холодно. В услужливо распахнутые настежь окна и двери немедленно заглядывал любопытный ветер, вынося последние остатки хилого подобия уюта. И хотя везде стояли огромные обогреватели, дающие удивительное тепло, но их не разрешалось включать утром: только после обеда, во время сна. И потому холод в классах напоминал подвальный или тюремно-подземельный, несмотря на то, что классы эти большей частью расположены были на втором этаже.

