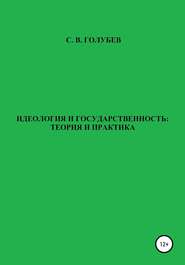 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Таким образом, можно сделать вывод, что постулат «естественного равенства людей по природе», играющий роль одного из «краеугольных камней» для либеральной и социалистической идеологий, не находит подтверждения в действительности. Факты, характеризующие социальную организацию даже самых примитивных сообществ, вслед за Гегелем, говорят, что «по природе» люди бывают только неравны. Единственное, что можно противопоставить этим фактам, – это провозглашение «равенства» в качестве ценности, желательного, «правильного» состояния общества. Но такое «провозглашение» должно прямо заявить о том, что к науке или, тем более, к Природе, оно не имеет отношения, и по существу своему, является именно идеологическим (и политическим!) решением, субъективным ценностным выбором, а не результатом объективного исследования фактов. То, что потенциал аргументации «эгалитаристской» концепции общества ограничен эмоционально-ценностной сферой, практически выводит ее за рамки объективного познания в область идеологии. Однако, в реальной практике социально-политических исследований подобные «прямые заявления» встречаются не часто. Случаи же когда не «афишируемые» или неосознаваемые идеологические пристрастия влияют на интерпретацию результатов эмпирических исследований, напротив, нередки.
На идеологическое основание попыток некоторых антропологов обнаружить «эгалитаризм» в примитивных обществах указывает, в частности, российская исследовательница О. Артемова. Она пишет, что термины «эгалитаризм», «эгалитарные отношения» вошли в антропологию благодаря работам американских неоэволюционистов, которые использовали их условно и со специальными оговорками: «В контексте неоэволюционистских теоретических построений содержание понятий «эгалитарные отношения», «эгалитарные общества» сводилось, главным образом, к отсутствию на первом этапе эволюции социальных отношений, сколько-нибудь выраженного имущественного неравенства, институциализированной власти, права, а другими словами, к отсутствию иных групповых статусных различий, чем половозрастные… Но, получив широкую популярность и оторвавшись от породившей их концептуальной основы, термины эти стали нередко восприниматься и употребляться в прямом значении слов «эгалитаризм», «эгалитарность», … ассоциирующиеся с идеалами и лозунгами французского революционного движения, они невольно вызывают в воображении картины, подлинной социальной гармонии и равенства…»195.То есть, как можно видеть, «идеалы и лозунги французского революционного движения», со времени Руссо «проникли» не только в политические программы, но и в отдельные социально-политические исследования, сделав их несвободными от оценок.
Приходится заметить, однако, что сколь бы широка ни была популярность «лозунгов и идеалов революции», и какие бы картины ни рисовало воображение, логика и факты свидетельствуют об обязательности иерархического устройства человеческого общества. Как пишет один из крупнейших современных социологов Э. Гидденс, обобщая эмпирические данные политантропологических исследований: «неравенство существует в человеческих обществах любых типов. Даже в самых примитивных культурах, где имущественные различия между людьми почти отсутствуют, существует неравенство между индивидами, мужчинами и женщинами, молодыми и стариками»196. Стоит сказать здесь, наверное, и о том, что субъективная привлекательность «картин подлинной социальной гармонии и равенства», якобы свойственных «естественному состоянию», остаётся безобидной только до тех пор, пока не становится «руководством к действию». Она не может, конечно, отменить того объективного логико-теоретического вывода, и исторического факта, что общества стремившиеся к достижению «подлинного социального равенства», в действительности «строили» тоталитаризм, которым закономерно оборачивалось насилие над естественной природой (которую, как известно, «не обманешь») человека и общества. Как верно пишет на этот счёт один из авторитетных российских политантропологов Н.Н. Крадин: «Неравенство всегда существовало в истории человеческого общества. В настоящее время закрывать на это глаза и, руководствуясь кабинетными иллюзиями прошлого века, пытаться создать общество без неравенства – это не только абсурдная, но и чрезвычайно опасная идея»197.
Закономерность, естественность иерархического устроения-упорядочения социального бытия подтверждается и изучением особенностей человеческого восприятия действительности. Когда Гегель говорил, что государство, в конечном счёте, основано на «чувстве необходимости порядка, которым обладают все», это были не просто слова. Современные исследователи говорят даже о «чувстве иерархичности» у человека, считая, что «истоки этого чувства лежат в характере эмоциональных взаимоотношений старших и младших»198. И действительно «чувство порядка», вообще говоря, следующее из социальности и разумности человека действительно глубоко укоренено в его природе, что проявляется, в частности, в таких феноменах человеческого сознания как, чувства ритма, предела-меры, чувство формы. Как пишет об этом Т.В. Топорова: «исследования по психологии восприятия дают практическое подтверждение правомерности термина «ощущение формы», выявляя связь формы с чувственно-эмоциональным миром человека»199.
Важнейшее значение для человека имеет также представление о черте как пространственной границе, пределе. «Черта, – говорит Топорова, – это глубинный символ человеческого сознания, что ярко представлено во фразеологической системе языка», – и далее, – «черта выступает иконическим репрезентатором понятий «предел», «разграничение»200. Иначе говоря, потребность в определении-разграничении, в упорядочении коренится в глубинах человеческого сознания. Очевидно, что эта потребность должна иметь адекватные средства и формы реализации и в социальном бытии. Уже «геометрическая интуиция» человека делает возможным и необходимым упорядочение не только пространственных, но и социальных явлений. «Геометрические образы, – отмечает Топорова, – встроены не только в сами представления человека об объектах мира, но в систему аксиологических критериев, систему оценочных пропозиций сознания. Концептуально-языковая разработка признака «форма» связана с представлением основополагающих смыслов человеческого бытия и их аксиологической и нравственной оценкой»201.
Принципиально важно отметить также, что современными исследованиями по психологии восприятия, в качестве непреложного факта, установлена экзистенциальная необходимость для человека, ценностно-нормативного упорядочения действительности. Вообще говоря, этот факт является закономерным следствием иерархического устроения общества и обусловлен социальной природой человека, но, вместе с тем, он отражает и витальную потребность присущую индивиду самому по себе. Так, один из крупнейших психологов 20 века, А. Маслоу, говорит, что у человека есть «потребность в системе ценностей», которая составляет «часть его животной натуры»202. Много писал об экзистенциальной необходимости ценностной мотивации человеческого поведения один из самых глубоких его исследователей К. Лоренц. Его вывод таков: «ценностное суждение, основанное на восприятии, является априорным в собственно кантовом смысле, т.е. логически необходимым для каждого сознательного мыслящего существа»203. Иными словами, специфичность человеческого существования заключается также и в том, что человек как таковой воспринимает действительность с точки зрения ценностей. И ценности эти, что нельзя упускать из виду, не могут быть сугубо субъективными, ибо в таком случае оказалось бы невозможной упорядоченная социальная организация, а значит и социальное взаимодействие как таковое.
В общем, исходя из вышеприведенных научных данных, можно утверждать, что то, что человек разумное социальное существо, означает также и то, что у него есть витальная потребность в ценностно-нормативном упорядочении действительности, собственного поведения в том числе. Необходимым средством удовлетворения этой потребности и является идеология как форма представления картины мира и способ полагания ценностей-норм регулирующих-упорядочивающих социальное взаимодействие. Так как ценностно-нормативное упорядочение взаимодействия является практически необходимым условием удовлетворения всех остальных потребностей индивида, оно превращает поведение в деятельность и порождает социальную организацию как свою объективную форму. Идеология, таким образом, оказывается необходимым элементом социальной организации (общества) как таковой. Ещё одним таким элементом является, очевидно, власть. Теперь, в соответствии с логикой нашего исследования и существом дела, можно и следует перейти к конкретному рассмотрению взаимосвязи идеологии и власти.
§2. Власть как способ социальной организации
Понятие власти как практически любое понятие, обозначающее фундаментальный социальный феномен, в современной науке и философии определяется очень по-разному. Это «многообразие» определений, само по себе говорит не просто об отсутствии даже самого общего концептуального единства в понимании феномена власти, общепринятого подхода к трактовке её происхождения и сущности, но свидетельствует также о «теоретической ненадёжности» результатов её изучения. Как отмечается в специально посвященном власти издании, для современного состояния ее исследований характерно, что: «В политической науке и политической философии не существует единого теоретико-методологического подхода к анализу феномена власти», – более того, – «исследователи, занимающиеся проблемой власти, вынуждены признавать зыбкость, теоретическую ненадежность результатов исследований власти, а также «смутность» самого этого понятия»204. Эти «зыбкость» и «смутность» понятия власти в современной науке обусловлены, как представляется, главным образом, двумя факторами. Объективным, который заключается в гносеологической сложности изучения, и соответствующей понятийной «нелокализуемости» феномена власти, что в свою очередь, является следствием и проявлением его онтологической «нелокализуемости»-неограничиваемости, и, вместе с тем, «диффузности-растворенности» власти вообще в социальной реальности. И субъективным, причина которого в том, что понятие власти входит в качестве обязательного элемента в концептуальное «ядро» идеологии как таковой. Поэтому любое исследование феномена власти и определение её понятия не может не находиться в поле сильнейшего идеологического «притяжения».
Соответственно, различные концепции власти, как правило, строятся в рамках различных идеологий, и, в своих принципиальных основаниях, принадлежат к различным системам ценностей и «картинам мира». Это, прежде всего, касается специально-научных, социологических и политологических концепций власти, которые по определению чреваты односторонностью и обречены на более или менее «зауженные» трактовки её сущности. Социологически-политологическое, оно же, рационалистически-материалистическое и научное изучение власти, после Руссо, со времени возникновения социологии, всё больше вытесняет её (власти) философский анализ, и в процессе и результате этого вытеснения, всё в большей степени, становится частью либерально-социалистического идеологического дискурса. Власть в таком случае оказывается «изобретением» индивида, «средством принуждения», а то и прямо, поддержания «классового господства» и «эксплуатации».
В принципе всё многообразие концепций власти представленных на сегодняшний день в социальной науке можно свести к двум основным противоборствующим подходам, – «конфликтному» и «консенсуально-интегративному».205 «Конфликтное» понимание власти, подчёркивающее её искусственность и принудительный характер, в своих философских предпосылках, как было показано ранее, опирается на номиналистическое понимание социальной реальности. Этот построенный на софистических принципах «архетип» происхождения и сущности власти впервые пытался теоретически обосновать Т. Гоббс, разработавший своё учение о государстве именно на основании «конфликтной» парадигмы. «Консенсуально-интегративный» подход исходит, из противоположных софистическому номинализму предпосылок и принципов. Философски этот «архетип» происхождения государства и власти был реконструирован в «Государстве» Платона, и в строгой логической форме обоснован в «Философии права» Гегеля. Таким образом, можно констатировать, что разрабатываемые в рамках «конфликтной» и «консенсуальной» парадигм концепции происхождения и сущности власти, восходят, соответственно, к софистической и платонической традициям осмысления социально-политического устройства общества. Другими словами, современная социальная наука, в своих попытках постижения власти, воспроизводит противостояние двух различных, логически возможных подходов к пониманию оснований социально-политического устройства. И, тем самым, сама оказывается также и полем для идеологического противоборства.
Надо сказать, что на сегодняшний день в этом противоборстве, во всяком случае, в рамках социологии и политологии, преобладает (по меньшей мере, количественно, числом разделяющих его авторов) «конфликтный» подход. Его концептуальной основой является понимание власти, разработанное одним из классиков социологии М. Вебером. Социологическая теория последнего, как известно, построена на принципиальной основе номинализма и «методологического индивидуализма». Её философские предпосылки, по словам известного российского специалиста Ю. Н. Давыдова характеризуют немецкого учёного как «мыслителя, близкого по своим мировоззренческим установкам традиции Гоббса, Макиавелли, Ницше»206. И действительно, мировоззренческое идеологическое измерение «методологического индивидуализма» достаточно очевидно. Неслучайно, наверное, Вебер, в своём понимании происхождения и сущности государства, как отмечалось выше, солидаризировался с Троцким. Для обоих и государство, и власть имели «конфликтогенную» природу, и были продуктами человеческого воления. Для социалиста Троцкого, группового (классового), для либерала Вебера, коренящегося в индивидуальной воле. Показательно, что в советском «Философском энциклопедическом словаре» 1983 года издания, определение власти: «Власть, в общем смысле способность и возможность осуществить свою волю», по сути, воспроизводит её веберовское понимание, разве что, более «мягкими» словами, без «навязывания» и т п. И в «Новой философской энциклопедии» 2001 года издания, определение власти осталось в сущности тем же, хотя, вроде бы, «власть сменилась». Здесь, правда уже в либеральном духе, насчитывается несколько «наиболее известных» «моделей» власти, но в качестве основополагающего определения её понятия, тем не менее, приводится, (причём просто, без затей, ненужных, по-видимому, с точки зрения автора и редакторов этого фундаментального издания пояснений), цитата Вебера: «Власть состоит в способности индивида А добиться от индивида Б такого поведения или такого воздержания от действий, которые Б в противном случае не принял бы и которое соответствует воле А»207. Иными словами, если немного сократить «научность» останется всё то же понимание власти как «способности индивида А» навязать свою волю «индивиду Б». Но именно этому и учили в своё время софисты и киники.
Вообще говоря, такое определение власти тоже, наверное, «имеет право быть», возможно, для социологического или какого-либо иного, специального описания конкретных ситуаций, но уж никак не в «общем смысле». Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что Вебер не ставит вопрос о том, на чем основана возможность индивида проводить «собственную волю». Ясно, однако, что возможность понять сущность чего-то «вне зависимости от того, на чем» это что-то основано, весьма сомнительна. При построении общего, философского определения возможность безразличия к основанию определяемого феномена лишь кажущаяся. В таком случае, эпистемологически корректным могло бы быть утверждение о том, что сущность власти остается неизменной вне зависимости от того, на чем основан конкретный вид власти, будь то традиция, сила, знание, собственность или что-то еще. Фактически общее определение власти как «навязывания воли», «способности к принуждению», входит в противоречие с реальностью, будучи не применимым ко многим конкретным решениям различных органов власти. На этот счет нетрудно привести любое количество эмпирических примеров. Скажем, государственная власть принимает решение увеличить штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Спрашивается, чья воля и кому «навязывается» посредством данного решения власти? Пешеходов – водителям, или «борцов за трезвость», производителям алкоголя? Или, скажем, правительство переносит выходной день с 4 января на 2-ое. Это ведь решение власти обязательное для исполнения. Чья воля «навязывается» в данном случае, кого и к чему «принуждают»? Как следует понимать это решение?
Думается, очевидно, что в этих, как и во многих других подобных случаях, решения власти вызваны объективными причинами и, по существу представляют собой не что иное, как в той или иной степени необходимые организационные меры, направленные на упорядочение взаимодействия индивидов. Эти меры, по сути своей, не могут быть поняты как средство навязывания/присвоения чьей-то воли. Заметим также, что по идее, любому представителю власти, от полицейского и мелкого чиновника до главы государства, вменяется в обязанность при исполнении своих властных полномочий «забыть о своих личных интересах». Это безусловная моральная и правовая норма. Ее нарушение часто расценивается как преступление и, во всяком случае, показывает, что носитель власти, как принято говорить, «недостоин» её. Реальная практика осуществления власти в обществе не даёт, таким образом, объективных «наблюдаемых» оснований для понимания её существа как личного «достояния», присущей индивиду способности. Напротив, общественным сознанием власть воспринимается как нечто безличное, то, чему индивид, – не столько её субъект, сколько носитель,–должен «служить».
Да и в принципе, поскольку власть не есть порождение индивида, устанавливаемый ею порядок не может быть произвольным. Он не может не соответствовать витальным потребностям индивидов и объективным условиям существования группы, и необходимо включает некоторые определенные нормы. И в действительности, исходно порядок взаимодействия в группе, очевидно, естественно складывается, конституируется, как следствие естественного хода вещей, необходимости определенных форм и норм социального взаимодействия. Даже дележ добычи, в самом примитивном обществе, одна из важнейших «экономических функций» власти, по необходимости упорядочен и отражает ранговую структуру любой устойчивой группы. То же и с производственной деятельностью, организация которой особенно, в «первобытном» обществе не может не опираться на половозрастную структуру, собственно половозрастную иерархию. Определённый порядок взаимодействия индивидов, таким образом, это не только социальный, но также и естественно-природный феномен и необходимость. Его построение и формы принципиально определяются объективными условиями существования группы, и, вообще говоря, практически не зависят от произвола её членов, не исключая и «вышестоящих».
Это обстоятельство, заметим, с безусловной достоверностью установлено многочисленными эмпирическими исследованиями политантропологов208. Ниже мы приведём некоторые фактические свидетельства на этот счёт. Но надо сказать, что необходимость объективного характера норм внутригруппового взаимодействия, невозможность их произвольного установления, очевидна и априори. Очевидно, например, что невозможно установить такой порядок, когда те, кто подчиняются, наказывались бы, а те, кто не подчиняются, поощрялись. Это означает собственно, что власть связывает себя обязанностью поощрять следование определенным ценностям. Имеются и гносеологические основания-ограничения власти. Обладающий властью, принимающий решения, не может действовать произвольно, субъективно, он именно должен принимать верные, желательно самые верные, единственные решения. Если принимаемые решения не вытекают из объективного положения дел, а основываются лишь на субъективном волении, то обладатель власти потеряет её. Это неизбежно и для главы семьи, и для главы государства, не говоря уже о руководителе предприятия или военачальнике.
Всё это, как представляется, достаточно очевидные соображения, вообще говоря, вытекающие из здравого смысла и реального жизненного опыта. Здравому смыслу, однако, как известно, далеко не всегда «везёт» в столкновении с идеологическими пристрастиями. Вряд ли поэтому можно рассчитывать на скорый и «безоговорочный» отказ политической науки от «увязывания» происхождения и сущности власти с индивидом, его произволом, с «господством», «принуждением» и. т.п. Как бы там ни было, ясно должно быть, что для возможно более полной «деидеологизации» изучения феномена власти, необходимо вернуть его в поле философского исследования. Важно не упускать из виду и то, что действительно общая теория власти может быть построена только на базе философских предпосылок и философскими средствами. Можно вслед за Гегелем сказать, что, мысля идею власти, надо иметь в виду не её особенные виды, а её как таковую. Общее понятие власти, поэтому не может быть получено посредством частно-научного, специального анализа, политологического, социологического или какого-либо подобного.
Философское осмысление сущности власти должно, очевидно исходить из определения её места и роли в жизнедеятельности индивида и социальной реальности вообще. Поэтому неслучайно, что начиная с Платона и Аристотеля, и вплоть до де Местра и Гегеля, для собственно философской традиции постижения власти характерно понимание ее как бытийно-нравственного явления и понятия. Тот же подход свойствен и отечественной мысли в ее развитии от Владимира Мономаха до славянофилов и И.А. Ильина. Принципиально он соответствует христианской (и шире, религиозной) трактовке сущности власти (всякая власть от Бога), как начала логоса, противостоящего хаосу, фактора упорядочивающего социальное бытие. Надо сказать, впрочем, что сегодня и в рамках социальной науки разрабатывается понимание власти как закономерного явления, укоренённого в самих основах общественной жизни. То, что власть не порождение индивида, вообще не искусственное, произвольное установление, возникающее на «определенном этапе общественного развития», а объективно необходимое для существования общества явление, утверждают крупнейшие представители современной социальной теории. Так, согласно авторитетному теоретику Н. Луману: «Власть представляет собой жизненно-мировую универсалию существования общества»209. По словам Гидденса: «Власть – всепроникающее явление социальной жизни. Во всех социальных группах одни индивиды обладают большей властью и влиянием, чем другие»210.
Для понимания власти в качестве основополагающего феномена социального бытия, исходным является тот факт, что существование индивида есть деятельность, непосредственно или опосредованно выступающая в форме коллективного взаимодействия. Последнее и по своему понятию, и практически предполагает согласование, регулирование действий своих участников. Регулирование, в свою очередь, предполагает нормативность (норма же, по своему понятию, отсылает к ценности и сама есть ценность) и может осуществляться только в рамках, и на основании определенного социального порядка как некоего целого. Если регулирование является необходимой функцией власти, то, следовательно, она также имеет своим основанием определённый социальный порядок. Так как последний является также и необходимым основанием социального взаимодействия как такового и, тем самым, существования общества как формы жизнедеятельности индивида, можно утверждать, что власть и общество имеют одно основание. Исходя из этого, можно предположить, что власть и общество связаны между собой необходимой связью. Это тем более оправданно, что их общее основание, – социальный порядок, – является витальной потребностью индивида, а значит и власть, и общество порождены одной и той же человеческой потребностью.
Другими словами, наличие власти как средства регулирования взаимодействия индивидов на основании определенного ценностно-нормативного порядка, является жизненно необходимым для индивида и свойственно обществу как таковому. Как говорит Э. Гидденс: «Власть – средство, обеспечивающее выполнение тех или иных действий, наличие которого подразумевается спецификой человеческой деятельности»211. Действительно, если общество представляет собой систему взаимодействий, а взаимодействие требует регулирования, то есть предполагает, различение, устойчивую и разнообразную дифференциацию состояний и функций (статусов и ролей) своих участников, то оно (общество) не может существовать, не обладая средством обеспечения такой дифференциации. Обеспечить системный характер социальной дифференциации общества в целом может только наличие в нем системы власти. Таким образом, включенность индивида в определенную систему взаимодействия, необходимо означает его включенность в определенный социальный порядок и определенную систему властных отношений. Можно сказать, что социальность и подвластность в сущности своей совпадают. Это совпадение отражено в языке, в котором асоциальный и неуправляемый субъект, – синонимы.



