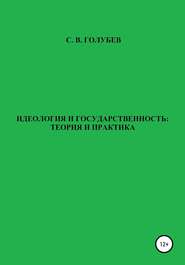 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
«Социализм» – общественное устройство, в котором удельный вес стимулирования относительно низок, преобладают принуждение и манипулирование. На этом и основывалось утверждение «антагонистического» характера социализма по отношению к капитализму. Поэтому же и господствовали здесь два сословия: «попы марксистского прихода» – партийные чиновники и представители спецслужб, военные. С известной точки зрения, «социализм» действительно был отступлением по сравнению с «капитализмом» и имел больше чем последний сходных черт с «феодализмом», в рамках которого преобладающими способами управления также были принуждение и манипулирование, «Социализм» лежал не в русле прогресса, был его боковой ветвью, но и «капитализм» не его венец. Поэтому и возможна была в принципе «конвергенция» (теория которой ныне благополучно забыта) когда оба строя перешли бы к манипулированию как основному способу управления.
Современное общество принято называть «посткапиталистическим», «постиндустриальным», «информационным». Это верные характеристики и это не просто слова, они отражают совершающийся переход к новому типу общественного устройства, сутью которого и станет применение манипулирования в качестве основного способа управления. Поэтому сегодня «тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Информация, – главный ресурс власти, и борьба за власть разворачивается в основном в сфере идеологии. Экономика развитых стран все больше обслуживает искусственно созданные потребности, а самые высокие прибыли получаются, как известно, в «сфере информационных технологий», вообще в «виртуальной» экономике. Переход от индустриального к «постиндустриальному» производству необходимо сочетается с переходом от стимулирования к манипулированию в сфере управления и от просветительства к «постмодерну» в сфере идеологии. «Постмодерн», производя свою «переоценку ценностей», рисует «картину мира», в которой отсутствует определенность и культивирует у индивида игровое сознание, игровое отношение к действительности, к собственной жизни в том числе, делает все предметом игры, что провоцирует манипулируемость её участников. По существу дело идет о разрушении системы культуры как системы координат, что, после идеологической победы Постмодерна, приведет индивида в состояние совершенной манипулируемости. Утрата индивидом устойчивости -определенности, способности и желания понимать происходящее и будет означать, собственно, «конец истории», прыжок-переход из мира поступка, ответственности и свободы, в мир игры, безответственности и неопределенности. В завершение этого экскурса напомним, что предчувствие подобного впервые было высказано (как это и должно быть, если имеет место предчувствие) писателями, в новосозданном в начале 20 века жанре антиутопий. Это, прежде всего «1984» Оруэлла и произведения других авторов уже написанные и те, что ещё будут написаны, пока не наступил «конец литературы», а кстати, и «конец философии».
Возвращаясь к рассмотрению системной взаимосвязи власти и государственности, отметим, что, так как власть изначально имеет идеальное (сакральное) основание, произрастает из идеологии, а государство есть форма организации или, что то же – форма власти в обществе в целом, можно предположить, что и государство является идеологическим по своей природе феноменом, – «происходит из религии», как говорил Гегель. Соответственно, становится необходимым переход к специальному анализу взаимосвязи идеологии и государственности.
§3
.
Государство как высшая форма социальной жизни
Государство сегодня предмет изучения для многих наук. Среди них, – и традиционное правоведение, и новые, относительно недавно возникшие, и еще не вполне достигшие «зрелости» социальные науки: социология, политология, и, конечно, их всевозможные «модификации». Каждая из наук, очевидно, рассматривает феномен государства под определенным «углом зрения». Этот закономерный для научного познания подход объективно не может не оборачиваться своего рода концептуально-теоретической фрагментацией государства, как явления общественной жизни в её целом. Оно предстает и как «субъект права» и, как «политический институт» и, как «субъект хозяйствования» и «игрок» на «рынке». Все эти «ипостаси», в том или ином отношении, могут, конечно, иметь место, но их описание и анализ, очевидно, не должны, и не могут, заменить философское постижение сущности государства, как целостного феномена социального бытия. В действительности, однако, происходит нечто, вроде, «социально-научной», прежде всего, политологической экспансии в сферу «государствоведения». Сегодня, даже платоновская и гегелевская теории государства изучаются в истории политических учений. Философия, таким образом, всё больше уступает политической науке сферу и прерогативу исследований государства. Дальнейшими следствиями этого «вытеснения» философии неизбежно оказываются, с одной стороны, – фактический отказ от теоретического анализа сущности государства, как такового, и переход к его «феноменологическому описанию» с различных «точек зрения», с другой, – нарастание идеологической интоксикации государствоведческих исследований, обусловленное самим фактом их перемещения в сферу «практико-ориентированной» политической науки. Да и концептуально-теоретическая фрагментация феномена государства, сама по себе, надо сказать, имеет идеологическое значение. А именно, является, внутринаучной, понятийной формой реализации либеральной установки, выраженной в принципе «чем меньше государства, тем лучше».
«Растворение» сущности государства во множестве разноплановых политологических описаний, в сочетании с привнесением в анализ его функционирования политико-идеологических акцентов, не может, очевидно, способствовать более полному и объективному познанию этого важнейшего феномена социального бытия. Неудивительно поэтому, что характеризуя современное состояние исследований государства в целом, можно, констатировать как сам факт отсутствия в социальной науке общепризнанной теории государства и даже единого теоретико-методологического подхода к изучению феномена государства, так и то, что этот факт имеет глубокие онтологические, гносеологические и идеологические причины. Если говорить о собственно философских исследованиях государственности, то, насколько известно, общее или, во всяком случае, преобладающее мнение научного сообщества, состоит в том, что после работ Гегеля не было создано ни одного философского учения о государстве, сопоставимого по своему значению с гегелевским. А что касается результатов изучения государства в рамках социальной науки, то можно, пожалуй, сказать, что её развитие, начавшееся с конструирования понятия «общество»226, как чего-то отличного от государства, способствовало, скорее большей проблематизации, чем прояснению понятия последнего. В общем, пришедшее на смену философскому исследованию, социологическо-политологическое рассмотрение социальной реальности привело к росту неопределенности в социальном познании в целом и, в понимании государства в особенности.
Говоря о ситуации в области теоретических исследований государства, можно, перефразируя вводное утверждение из работы Н. Лумана «Власть», сказать, – известно много противоречивых попыток подвести феномен государства под теоретически и эмпирически адекватное понятие государства. Ниже мы приведём некоторые конкретные примеры таких, не самых удачных, на наш взгляд, «противоречивых попыток». Здесь же заметим, что общая ненадёжность результатов изучения власти, отмеченная выше «смутность» её понятия, неизбежно, причём a fortiori, сказывается на результатах изучения государства. Не удивительно, что по оценке одного из крупнейших представителей современной социальной теории Э. Гидденса: «термин «государство» является весьма неопределённым»227. Он отмечает также, что: «Адекватная «теория» традиционных или современных государств не может походить на большинство теорий, господствующих в литературе наших дней»228. И действительно, сегодня отчетливо выявилась неспособность политической науки выработать общезначимое определение государства. Определение, обладающее адекватной «широтой и глубиной», проникающее в сущность, а не описывающее впечатления «наблюдателя» с понравившейся ему точки зрения. Эти, затруднения политологии обусловлены, во многом, объективными причинами, прежде всего, тем, что государство не локализуется исключительно в политической сфере, – это куда более широкий феномен. Для его адекватного понимания, следует исходить из того, что государство, вообще, есть форма властной организации общества. Конкретное рассмотрение этой формы требует, очевидно, установления ее специфики. Согласно общепринятым представлениям, специфика государственной власти состоит, прежде всего, в том, что она обладает суверенитетом, является верховной властью. На первой ступени конкретизации, феномен государства получает, таким образом, определение высшей, завершенной формы властной организации общества, или, в более широком смысле, —автономной («самозаконной» и самодостаточной) формы существования общества. Поскольку общество вообще, со стороны формы, есть социальная организация, определённый социальный порядок, государство как таковое оказывается высшей автономной формой существования ценностно-нормативного социального порядка. Такова необходимая вторая ступень конкретизации определения государства. Это определение остается еще достаточно абстрактным для того, чтобы раскрывать сущность государства в необходимой степени. Однако оно позволяет очертить общие концептуальные рамки объективного рассмотрения феномена государства.
Определение государства как высшей автономной формы существования социального порядка, имманентно содержит представление о его (государства) происхождении из низших форм и делает, поэтому необходимым, для построения общей концепции государства, обращение к их анализу. Этот последний составляет предмет специального интереса политической антропологи, одной из важнейших задач, которой и является изучение проблемы происхождения государства на материале конкретных эмпирических исследований социальной организации примитивных сообществ.
Для характеристики общей концептуально-теоретической ситуации в политантропологическом изучении генезиса государства приведем слова Н.Н. Крадина: «В настоящее время существуют две наиболее популярные группы теорий, объясняющие процесс происхождения и сущность раннего государства. Конфликтные или контрольные теории показывают происхождение государственности с позиций отношений эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтнического доминирования. Интегративные или управленческие теории главным образом ориентированы на то, чтобы объяснить феномен государства как более высокую стадию экономической и общественной интеграции»229. Отметим, что уже эти общие формулировки позволяют отметить некоторые принципиальные особенности политантропологических теорий. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что «конфликтные» теории связывают государство с такими понятиями как «эксплуатация», «классовая борьба», «война», «межэтническое доминирование». Все эти понятия, по сути, апеллируют к эмоциям, мягко говоря, не свободны от оценки и обладают ярко выраженной негативной «окрашенностью». Соответственно, согласно максиме, – сущность раскрывается в происхождении, теория «конфликтного» происхождения государства, говоря о «прирождённых» ему отношениях «эксплуатации», «доминирования», «войны», – все эти качества, прямо или косвенно, переносит и на природу государства как такового, сущность государства вообще. Последнее, «вбирая» в себя все эти резко отрицательные коннотации, неизбежно оказывается злом. Может быть и «необходимым на определенном этапе общественного развития», но, принципиально, злом. То есть получаем, известный до всякой «политантропологии», ключевой софистически-кинический и либерально-социалистический тезис.
Характеристика второй «группы теорий», данная Крадиным, не совсем внятна и основания, по которым эта «группа» отделяется от первой, неясны. Так, вполне можно представить возникновение государства как «более высокой стадии экономической и общественной интеграции» в результате классовой борьбы, одно не противоречит другому. Впрочем, в другой работе, Крадин более четко и содержательно квалифицирует «интегративные» теории происхождения и сущности государства: «Согласно «интегративной» версии политогенеза архаическое государство возникает вследствие организационных нужд, с которыми вождеская организация власти не может справиться. При этом раннегосударственная власть имеет не насильственный, а консенсуальный характер. Она основана на сакральной идеологии»230. Из этой характеристики видно, что «две группы теорий» происхождения государства, «существующие в настоящее время» в политантропологии, действительно исходят из разных предпосылок и принципиально различаются в понимании сущности государства. В контексте нашего исследования важно отметить, что в современной политантропологии, закономерным образом, воспроизводится возникшее во времена Платона и софистов теоретическое противостояние двух основных концептуальных подходов к пониманию оснований государственности. Можно сказать также, что и в этом случае, подтверждается известная истина о том, что, так как наука опирается на философские предпосылки, научное решение проблемы происхождения государства не может быть получено, если отсутствует принципиальное единство в философском понимании сущности этого феномена. В такой ситуации, наука на своем данном уровне будет воспроизводить в свойственной ей, конкретной форме «дискуссии», ведущиеся в философии, что и происходит, как видим, в современной политантропологии.
Если говорить о «конфликтной» теории происхождения и сущности государства, то большинство придерживающихся её политантропологов исходит из того, что отличительной чертой государства как такового, является наличие у него «репрессивной функции», которой не было у власти в догосударственных обществах231. Это именно та точка зрения, развитием которой является известное либерально-социалистическое определение государства как «аппарата принуждения (насилия)». Такой подход, в концептуальном отношении предполагает разделение понятий и функций принуждения и контроля. Тогда можно считать, что функция контроля присуща власти в любом даже самом примитивном обществе (а отрицать существование власти и иерархии в «первобытном обществе» в принципе, как это делали Руссо и Маркс, сегодня значило бы входить в вопиющее противоречие с фактами), а функция «репрессии», принуждения специфична именно для государственной власти.
Это хорошо видно из следующих слов российского теоретика политантропологии Э.Годинер, которая в обзорной работе по проблеме возникновения государственности, пишет: «на вполне конкретном, достаточно обширном этнографическом материале было установлено, что механизмы социального контроля присутствуют в любом человеческом обществе. Изучение этих механизмов и стало основным предметом политической антропологии, а политика и власть ее ключевыми понятиями… Тем самым проблему происхождения государства в политической антропологии следует понимать как преобразование одних форм и механизмов власти в другие, качественно иные, вызванные к жизни совокупностью стимулов и факторов, также подлежащих исследованию»232.
Анализируя эти весьма неопределенные, особенно в заключительной части, и вместе с тем претендующие на далеко идущие обобщения, утверждения следует, прежде всего, заметить, что качество любых «форм и механизмов» власти состоит в том, что они являются формами и механизмами власти. Поэтому, если меняется их качество, то они перестают быть «формами и механизмами власти». То же касается и «механизмов социального контроля». Если же вместо понятия «качество» употреблено слово обыденного языка, что, вообще говоря, не совсем уместно в теоретических рассуждениях, то словосочетание «качественно иные» может иметь приблизительный смысл: «значительно различающиеся». В этом случае, оно не имеет в рассматриваемом суждении самостоятельного значения и становится просто излишним. Таким образом, остается неясным, как все-таки понимать проблему происхождения государства в политической антропологии. Но главное не в этом. Если признается, что «механизмы социального контроля» существуют в любом обществе, то становится невозможным утверждение, что специфика государственной власти состоит в обладании средствами принуждения.
Дело в том, что контроль, и по своему понятию, и практически, предполагает наличие правил, различение допустимого и недопустимого, а также возможность применения санкций к совершающему недопустимое, конкретнее говоря, возможность принудить соблюдать наличные правила. Без возможности принуждения контроль невозможен, бессмысленен, тогда он, в соответствии с понятием, есть не контроль, а наблюдение. Не допустить недопустимого, любыми средствами, такова цель контроля, по определению. Поэтому даже контролер в общественном транспорте имеет право и обязанность принудить безбилетного пассажира оплатить штраф.
Говоря о «принуждении», наличии «аппарата принуждения» как специфической особенности государства, необходимо не упускать из поля зрения одно принципиально важное обстоятельство. То, что государство располагает «аппаратом принуждения» столь же очевидно и общепризнанно, как и то, что государство является «институтом управления», органом власти в обществе, как целом. Для выяснения сути дела вопрос должен быть поставлен таким образом: из чего надо исходить в понимании сущности государства и оснований государственности, – либо из того, что государство есть «институт управления», форма организации власти в обществе в целом, либо из того, что у государства есть специализированный «аппарат насилия»? Как только вопрос сформулирован, становится очевидным, что данная альтернатива не имеет логического обоснования, ибо сущность предмета заключается в том, что он есть, а не в том, что у него есть. И здесь ничего не меняют ссылки на то, что если у предмета нет некоей составляющей, пусть даже необходимой, некоего свойства, средства и т.п., то предмет не может выполнять своего функционального предназначения, а значит и не есть то, чем он должен быть. Автомобиль без колес или, если угодно, без мотора, и даже без бензина, который вообще есть нечто сугубо внешнее, не может выполнить своего функционального предназначения, и не есть автомобиль, но из этого не следует, что сущность автомобиля заключается в колесах, моторе или бензине. Это все не более, чем средства, наличие которых позволяет автомобилю выполнять свою функцию, быть тем, что он есть, но не колеса делают автомобиль автомобилем.
«Аппарат насилия», также есть только средство, одно из средств, исполнения государством своей конститутивной функции, – управления обществом. Поскольку средство, по определению, не относится к сущности и не является функцией можно утверждать, что: во-первых, адекватное понимание государства не может исходить из той предпосылки, что государство делает государством именно наличие «аппарата принуждения»; и, во-вторых, что у государства нет функции принуждения. Определение государства как «аппарата принуждения» в формально-логическом отношении есть определение через признак. Но всякий объект имеет совокупность признаков, поэтому определение через признак предполагает перечисление признаков, которое, вообще говоря, имеет тенденцию ухода в бесконечность и является методически неоправданным, во всяком случае, для получения общего определения. Определение через признак может играть лишь вспомогательную роль и главным образом на начальных этапах исследования, носящего преимущественно эмпирический характер.
Что касается функции принуждения, то она не конститутивна даже для полицейского, его главная функция состоит в охране общественного порядка. Другое дело, что у полицейского обычно имеются различные средства, «аппараты» принуждения: дубинка, наручники, пистолет, автомат и право их применять. Практическое различие функции и средства, института, органа управления и «аппарата насилия» удобно рассмотреть на примере ГАИ, не случайно к подобному примеру прибегают столь различные исследователи как Х. Арендт, Ю. Хабермас, М. Фуко и Э. Гидденс233.
Государственная автомобильная инспекция есть орган организации движения автомобилей, это ее конститутивная функция. ГАИ, в сущности своей, есть «институт управления» движением на дорогах и именно для исполнения этой функции, она располагает «аппаратом насилия» и полномочиями по его применению. Здесь важно обратить внимание на одно принципиальное обстоятельство: существование ГАИ предопределено необходимостью регулирования «автомобильного взаимодействия», а не необходимостью принуждения нарушителей правил этого взаимодействия. Одно, конечно, связано с другим, но эта связь не является необходимой ни логически, ни практически. Даже если бы у ГАИ не было «аппарата принуждения», она все равно была бы необходимой для установления правил и организации движения. Без регулировщика, движение (эффективное «автомобильное взаимодействие») невозможно, даже если все водители будут опытны и законопослушны. Если все водители будут неопытны и незаконопослушны, а регулировщик не будет обладать «аппаратом», то дело закончится тем, что число водителей значительно сократится, а оставшиеся приобретут опыт и законопослушание в той мере, которая необходима, чтобы добровольно подчиняться регулировщику. Другими словами, есть у регулировщика «аппарат принуждения» или нет, не имеет отношения к существу дела. Функция должна исполняться, поэтому наличие регулировщика с "аппаратом" или без него теоретически и практически необходимо. Так что дубинка «гаишника» служит, прежде всего, средством регулирования, а не принуждения, а сам он представителем «института управления», а не «аппарата принуждения».
Пример с ГАИ, являющейся органом государственной власти, дает возможность представить простейшую идеально-типическую конструкцию, отображающую принципы функционирования последней. Анализ этой конструкции, на наш взгляд, служит еще одним доказательством неадекватности понимания сущности государства как «аппарата принуждения», показывая, в частности, что в логическом отношении это понимание построено, с одной стороны, на некорректном различении понятий «принуждение» и «контроль», а, с другой, на некорректном неразличении, смешении понятий «средство» и «функция», «признак» и «качество», «сущность».
То, как такое смешение, приводящее к искаженному представлению происхождения и сущности государства, фактически происходит в конкретных исследованиях, можно видеть на примере работ одного из крупнейших политантропологов 20 века Э. Сервиса, разработавшего концепцию «вождества», одну из важнейших для современной политантропологии. «Вождество» стало одним из ключевых понятий в теоретическом «арсенале» последней, играет существенную роль, и в «полевых» исследованиях. Как пишет Н.Н. Крадин: «если до 60-х годов археологи и этнологи нередко описывали потестарную структуру с помощью термина «племя» и производных от него, то после выхода и осмысления работ Э. Сервиса на местах бывших племен, то тут, то там стали «обнаруживать» вождества»234. По словам Крадина, Сервис «определил вождество (чифдом) как промежуточную (между общиной и государством) форму социополитической организации с централизованным управлением и наследственной клановой иерархией вождей теократического характера и знати, где существует социальное и имущественное неравенство, однако нет формального и тем более легального репрессивного и принудительного аппарата»235. Как видим, логика концепции «вождества», а «создание теории вождества считается одним из наиболее серьезных достижений западной послевоенной антропологии и этнологии»236, весьма проста: «нет формального репрессивного и принудительного аппарата», – нет и государства. Такой подход присущ и отечественной политантропологии. В «Предисловии» к сборнику работ российских политантропологов, отражающем, если не общепризнанное, то наиболее распространенное мнение, государство также, по сути, сводится к «специализированному бюрократическому аппарату» и «монополии элиты на узаконенное применение силы»237.
Таким образом, практически, единственный критерий государственности, которым сегодня оперирует политантропология – это наличие репрессивного аппарата. Такой критерий, во всяком случае, будучи основным, имманентно содержит определенное представление о сущности государства и влечёт использование определенного круга понятий при анализе феномена государственности, по сути, переводя проблему из сферы науки в сферу идеологии. Государство в таком случае, объективно оказывается чем-то чуждым обществу и индивиду, механизмом, насилующим их, «подавляющим» их свободу, а «конфликт» государства и «народа» становится, если воспользоваться, выдержанным в марксистском духе выражением Э. Годинер, – «основным содержанием исторического процесса». Основной понятийный круг тогда составляют понятия: «принуждение», «насилие», «аппарат», «эксплуатация». О «насилии» и «принуждении» шла речь выше, в ходе рассмотрения «конфликтно-индивидуалистического» понимания власти. «Конфликтной» интерпретации происхождения и сущности государства понадобились, как видим, еще и понятия «аппарат» и «эксплуатация». Можно сказать поэтому, что «конфликтные» концепции государства еще более механистичны и идеологизированны, чем «конфликтные» концепции власти.



