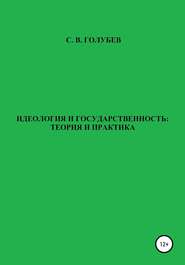 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Если говорить об «эксплуатации» вообще, то это весьма неопределенное понятие, под которое может быть подведен очень широкий круг самых разных явлений. Оно внутренне связано с понятиями «принуждение» и «неэквивалентный обмен» и, соответственно, его употребление влечет за собой проблемы, связанные с употреблением последних. Определенным содержанием понятие «эксплуатация» может обладать только в применении к сфере экономических отношений. А как факт, эксплуатация может быть безусловно доказана исключительно в сфере межиндивидуальных отношений, в том случае, если можно доказать их необоюдную выгоду. Не случайно понятие «эксплуатация» не имеет сегодня общепризнанного терминологического статуса в социальной науке.
Не имеет такого статуса и понятие «аппарат». Оно не просто механистично как «сила» или «сопротивление», оно вообще не принадлежит к кругу научных понятий, не употребляется в качестве термина даже в естественных науках. Это понятие технического круга, принадлежащее скорее к сфере деятельности, чем познания. В прямом смысле слова «аппарат» – это искусственное, собранное, составленное, созданное человеком, и находящееся в его распоряжении, служащее ему техническое орудие – средство. Все эти смысловые коннотации объективно переносятся и на государство, если оно определяется как «аппарат». В современном языке, понятие «аппарат» употребляется очень широко и является одним из самых неопределенных, обозначая самые разные предметы как материального, так и идеального характера. В «переносном смысле», слово «аппарат» может означать едва ли не вообще всякую вещь, могущую выступать в качестве орудия и едва ли не всякую относительно обособленную подсистему.
Логическая необоснованность понимания государства как «аппарата принуждения» дополняется ещё и тем, что наличие «аппарата» в качестве критерия государственности, оказывается практически непригодным. В практическом отношении при таком критерии вопрос о происхождении государства сводится к вопросу о том, когда возник специализированный, бюрократический, репрессивный и т.п. «аппарат». По существу, такой вопрос составляет предмет сугубо исторического интереса и, строго говоря, не является проблемой социальной науки и тем более философии. Он может быть разрешен только посредством эмпирического поиска пространственно-временной точки возникновения «аппарата». Но для того, чтобы такой поиск мог дать определенные результаты, необходимо, чтобы понятие «аппарат» обладало определенным содержанием. В противном случае, даже при «всеобщем согласии», в том, что наличие «аппарата принуждения» является конститутивной и специфической особенностью (чертой, признаком, свойством, характеристикой и т.п. и даже функцией или сущностью) государства, дискуссии о происхождении и критериях государственности, действительно никогда не завершатся, и проблема генезиса государства «навечно» обретет статус «вечной».
Поскольку понятие «аппарат» не обладает определенным содержанием, практическая непригодность наличия «аппарата» в качестве критерия государственности очевидна априори, но была вполне удостоверена и в ходе эмпирических исследований. Было, в частности, продемонстрировано, что концепция вождества, специально разработанная для нахождения «промежуточного звена» между племенной организацией и государством, и установления четкого критерия государственности, не имеет достаточно определенных объективных оснований и «провести четкую грань между этими стадиальными этапами социокультурной эволюции очень и очень сложно, если не невозможно»238. П.Л. Белков, в связи с этим, в работе с характерным названием «Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в термины?», говорит даже о том, что «К теме фиктивного процесса научного познания приходится обращаться, в частности, в связи с ситуацией, в последнее время складывающейся, как думается, в сфере политической антропологии»239. Общий вывод Белкова таков: «Вышесказанное показывает, что еще до возникновения концепции «предгосударства» не существовало реальных определений государства, что «вождество» в качестве особой эволюционной стадии создано лишь по внешнему предписанию и удерживается как нечто особое от государства исключительно в силовом поле зрения исследователей. Проблема вождества подобно проблеме «предгосударства» является переформулированной проблемой происхождения и глубже, сущности государства»240.
Учёный отмечает также, что, несмотря на отсутствие достаточных объективных оснований, важнейшую роль в понимании современной политантропологией происхождения и сущности государства, играет концепт «насилие»: «Мы доподлинно не знаем, как возникло государство, но понятие «государство» пришло в науку путем сложения понятий «вождество» и «насилие»241. Что касается последнего, то, Белков о субъективизме в его употреблении при определении понятия государства, говорит, что: «точно так же школьный дневник для одних – «орган охраны порядка», а для других «аппарат принуждения, насилия и гнета»242. Поскольку понятие «вождество» также отличается неопределенностью и субъективизмом, не удивительно, что в научных исследованиях сегодня, по словам Белкова: «Фактически государство есть только имя. К имени «государство» произвольно как к субъекту высказывания (= субъекту высказывающемуся) приставляют различные предикаты. Предикат, изобретенный М. Вебером, наиболее популярен и не более того», и: «В науке, по крайней мере, на операциональном уровне, вообще не существует определений государства. Выдаваемые за таковые, оказываются более или менее подробными списками институтов государства»243.
Если говорить о конкретных примерах, подтверждающих проблематичность концепции «вождества» и «неоперациональность» существующих определений государства, то можно сослаться на работу А.В. Коротаева по доисламской истории Йемена. В работе с характерным названием «От государства к вождеству? От вождества к племени?» ученый показывает объективные трудности выделения «государственной», «вождеской» и «племенной» стадий при описании развития форм политической организации доисламского общества Йемена244. Приведем также факт, отмеченный Р.В. Янборисовой. Она говорит, что при изучении социально-политического развития эфиопской народности оромо, в различных исследованиях «часто одни и те же общества называются племенами, вождествами, государствами, феодальными государствами»245.
Подобный терминологический субъективизм, являющийся объективным следствием и показателем отсутствия адекватного понимания сущности государства, проявляется не только в исследованиях оромо. По сути, он уже выходит за рамки собственно политантропологии. Сегодня среди представителей последней, распространено мнение о необходимости «переквалифицировать» многие социально-политические образования, традиционно считавшиеся в науке (и шире в общественном сознании) государствами, в вождества. Как пишет Ю.Е. Берёзкин: «Множество политических образований от древности до Нового времени, которые традиционно именуются царствами, княжествами, городами-государствами и т.п. отвечают скорее стандартам вождеств»246.
Действительно, поскольку наличие формального «аппарата» легального принуждения служащего «инструментом для присвоения прибавочного продукта» можно доказать далеко не для всех государств вплоть до Нового времени, становится проблематичной государственность не только античного полиса, но и Рима периода республики, королевств и городских республик средневековой Европы, империи монголов и тимуридов, ацтеков и инков и т.д. Эта проблематичность и подчеркивается многими политантропологами, помимо Ю.Е. Березкина, в частности, П.Л. Белковым, А.В. Коротаевым, Д.М. Бондаренко247. Характерна позиция последнего, он пишет: «В последнее время все чаще высказывается мнение, что политогенетические исследования оказались в тупике. Не могу не согласиться с этим. Как мне представляется, найти выход из этого методологического тупика позволяет отказ от признания государства универсальной формой организации постпервобытного общества»248. Нам же представляется, что «выход» надо искать в другом направлении. Конкретно, не в «отказе от признания государства», а в отказе от определения государства через признак наличия «формального аппарата легитимного насилия». Ибо именно убедительно показанная в ходе конкретных эмпирических исследований практическая неприменимость этого определения ко многим высокоразвитым, обладающим сложной социально-политической организацией, обществам и привела политогенетические исследования в «методологический тупик». Показательна в этой связи общая характеристика результатов этих исследований данная Э. Гидденсом. Он говорит, что: «теория, на которую возлагается задача обнаружения «истоков государственности», оказывается химерой »249.
Очевидно, тем не менее, что теоретический поиск не может прекратиться. Другое дело, что теория политогенеза не может развиваться за счет переименований империй в «суперсложные вождества», «мультиполитии»250 и должна сосредоточиться не на пересмотре истории, а на устранении идеологических, в своей основе, клише и соответствующем пересмотре собственных теоретико-методологических оснований. Если говорить об эмпирическом изучении факторов развития государственности, вынеся за скобки явные «вкусовые добавки» идеологического свойства, то конкретные исследования политантропологов дают весьма показательные и достаточно однозначно интерпретируемые результаты. Объективные данные эмпирических исследований вполне определённо и основательно показали, что государство, как форма организации власти в обществе в целом, изначально имеет сакральное основание. Российская исследовательница Н. Б. Кочакова, в специальной работе, обобщающей результаты изучения особенностей формирования государственности на самых ранних этапах, пишет – «Легитимность власти в раннем государстве основана на сакральных свойствах правителя, на вере в его сверхъестественные способности обеспечивать благоденствие страны и народа. На этой стадии политогенеза, в условиях, когда в обществе уже наличествует социальное неравенство, но еще слаб аппарат, способный обеспечить принуждение, сакральность правителя и способность власти использовать веру в сверхъестественные силы широко применяются в качестве средства принуждения. Принуждение (подчеркнуто С.Г.), подчинение преимущественно или в значительной степени идеологическими средствами – особенность раннего государства»251.
Кочакова, как видим, подчеркивает сакральные основания власти, ее легитимности в качестве специфической особенности раннего государства. И, что принципиально важно, отмечает присущий ему идеологический характер «принуждения». Что касается ее слов о том, что «уже наличествует социальное неравенство, но еще слаб аппарат» и т. п., то, как уже отмечалось, ранговые различия существуют даже у животных. Да и в принципе, относительно приведённого высказывания приходится заметить, что, если есть вера в «сакральные свойства правителя и его сверхъестественные способности обеспечивать благоденствие страны и народа», то нет необходимости даже в «слабом аппарате» принуждения, так как, в таком случае, очевидно, нет надобности принуждать к подчинению. Последнее осуществляется «само собой», «добровольно», как элемент «естественного порядка вещей» и воспринимается как соответствующее интересам подчиняющегося. Употребление понятия «принуждение» для описания такой ситуации совершенно искусственно и может быть обусловлено исключительно концептуальной «предзаданностью». В вышеприведенной цитате мы подчеркнули ту часть высказывания Кочаковой, которая не вытекает ни из фактов, ни из логики, а представляет собой «приставленную» к фактам, идеологически предвзятую интерпретацию. Эта часть, в данном контексте, не имеет содержательного значения и может быть устранена из высказывания без всякого ущерба для его фактического смысла. Более того, именно тогда рассматриваемое суждение станет высказыванием о фактах.
Наличие и необходимость сакральной «опоры» для раннего государства и его генетическая связь с семейно-родовым коллективом отчетливо выражены и в словах Д.М. Бондаренко о социально-политической эволюции бенинского общества: «В сакральных функциях обы (бенинского правителя С.Г.) особенно отчетливо сказалась его суть как мегастарейшины … это демонстрирует на африканском материале то, что было показано к примеру Н.А. Бутиновым на материалах Полинезии: позднепотестарные верховные правители появляются в результате эволюции института наследственных старейшин. И именно то, что власть обы считалась как бы продолжением законной власти старейшин придавало бенинскому обществу социальную устойчивость»252. Стоит отметить, что Д.М. Бондаренко не считает доколониальное бенинское общество государством. Именно из-за отсутствия аппарата принуждения, «эксплуатации» и т. п. Выше мы уже обсуждали эту позицию в принципе. Относительно Бенина, скажем, что большинство исследователей считает его государством, причем спор идет о том, было оно рабовладельческим или феодальным253. Бондаренко же, весьма показательным образом, аргументирует свое мнение тем, что в Бенине «Верховные старейшины оставались представителями народа»254.
То есть, по существу, перед нами еще одни образец, не связывающей себя фактами «концептуальной» предвзятости: нет «эксплуатации», «извлечения прибавочного продукта», «конфликта власти и народа», нет и государства. Подобная софистическая логика, вообще говоря, в своем развитии необходимо ведет к анархизму. А практически, в частности, ставит придерживающихся ее, перед альтернативой: либо современные демократические общества, – те же США или Франция, – не являются государствами, если их «верховные правители» «остаются представителями народа»; либо не являются демократическими, если эти правители таковыми не остаются. Каким бы ни было мнение Д.М. Бондаренко на этот счет, очевидно, что подобная постановка вопроса в принципе носит сугубо идеологический характер и находится за рамками объективного исследования, вне зависимости от того, касается оно современного американского или доколониального бенинского общества. Что касается научного изучения фактов, то интересна констатация Бондаренко того, что в Бенине: «Первой формой надобщинной организации стало вождество, выросшее «снизу»255. Если учесть, что в политантропологии границы между «вождеством» и государством» «весьма неопределенны», а Д.М. Бондаренко, в данном случае, называет «вождеством» общество, которое большинство политантропологов считает государством, то эта констатация есть не что иное, как фиксация эмпирического факта, свидетельствующего о порядке возникновения, «вырастания» реального государства. Так что предположение о том, что последнее может вырастать «снизу», обходясь без «насилия», в эмпирическом отношении, мягко говоря, не менее обосновано, чем обратное.
Наличие сакрального основания государственности установлено исследователями и во многих других случаях. Так, В.Е. Баглай в специальной работе о государстве древних ацтеков пишет: «В древнеацтекском обществе на вершине социальной лестницы и вершине власти стоял правитель, носивший древний титул Тлатоани (tlatoa, «говорить», «приказывать»256). Подобно древнеегипетскому фараону, он обладал верховным административным, военным и религиозным авторитетом», – далее он отмечает, что у правителя ацтеков «сохранились отголоски религиозных функций типичного вождя поздней первобытности»257. Т.Д. Скрынникова, характеризуя отношение к правителю в империи монголов, отмечает, что: «по традиционным представлениям средневековых монголов выполнение правителем регулирующей функции в социуме обеспечивается его особой связью с toru – Высшим Законом, который Небо через него проявляет. Это форма легитимации может быть названа «сакральным правом», регулировавшим отношения «социум – космос»258. Восприятие политико-правовых отношений как элемента общего мироустройства и государственной организации как необходимого способа включения «социума» в «космос», то есть в общий порядок бытия было свойственно и ацтекам. По словам В.Е. Баглая: «В идеологии этого древнего общества существовало стремление увязать управление государством с общим мировым космическим порядком»259. Заметим здесь, что такое стремление характерно также и для идеологии древнегреческого общества, что было нами специально показано. А в принципе, восприятие государственного устройства как элемента общекосмического порядка характерно для любого традиционного общества.
Показательны в этой связи, выводы американских политантропологов П. Уасона М. Балдиа, которые, говоря об «огромной роли религии на протяжении человеческой истории», утверждают, что «как исследователи мы (т.е. ученые вообще С.Г.) до сих пор не в полной мере осознаем значимость этих фундаментальных очевидных фактов»260. Ученые пишут о том, что в социальной науке имеет место «игнорирование религиозных чувств как возможного объяснения социальных феноменов» и что «антропология располагает достаточным потенциалом, чтобы противостоять этим тенденциям»261. Это, действительно распространенное «игнорирование», заметим, далеко не случайно и объясняется как раз сугубо идеологическими причинами. Выше мы приводили современные научные данные о значении ритуалов в жизни общества, в поддержании и укреплении его единства и иерархии. Поскольку такое поддержание и укрепление, и является собственной функцией управления и власти, представляется вполне обоснованным предположение, что первичные институты управления и власти в обществе конституировались в процессе ритуально-культовой деятельности, необходимой для исполнения обрядов, жизненно-важного в представлении членов архаических сообществ, культа предков.
Показательным конкретно-историческим фактом, убедительно свидетельствующим о «вырастании» государственных институтов из религиозно-культовой деятельности и непосредственно из культа предков, является история развития государственности в Японии. В специальной работе Т.Г. Силы-Новицкой «Культ императора в Японии» на материале анализа большого количества литературных источников и официальных документов показано, что культ императора как, своего рода, «отца нации», ее представителя перед божествами был, и, по сути, остается вплоть до наших дней, необходимым основанием японской государственности, и устойчивости всей социально-политической структуры японского общества262.
Т.Г. Сила-Новицкая отмечает основополагающее значение древнейшего принципа синтоизма «единства отправления ритуала и управления государством» для общественно-политической жизни Японии. «Управление государством, согласно политической доктрине государственного синто, – пишет она, – означало «руководство обществом посредством участия в обрядах»263. Неразделение религиозно-культовой и государственной деятельности характерное для японского мировоззрения со времени становления государственности хорошо выражено в «значении синтоистского термина «мацуригато», который, обозначая отправление религиозных обрядов, ритуальных празднеств, в то же время переводится и как «государственные дела по управлению»264. Заметим, что идентичное, по сути, понимание взаимосвязи ритуально-культовой и государственной деятельности свойственно, как известно, и конфуцианству, на принципах которого строилась китайская государственность.
Вообще говоря, о значении религиозных ритуалов в становлении ранней государственности, да и, в целом, в жизни людей традиционного общества, необходимо сказать следующее. Понятие реальности, очевидно, разнится в различных культурах. То, что считает реальным современный человек, прошедший выучку в либеральной школе, может принципиально отличаться от того, что считает таковым человек традиционного общества. Поэтому, ничего кроме недоумения или иронии, не могут вызывать попытки идеологически «подкованных» политапонтропологов найти «действительные причины», возникновения государства, и вообще действий людей, прежде всего, в экономических факторах. Очевидно, должно быть, что если человек верит в то, что жизнь и благополучие его и членов его семьи зависит от воли предков или богов, от исполнения определенных обрядов и ритуалов, то он будет делать все от него зависящее, чтобы как можно тщательнее исполнять эти обряды и ритуалы. Стремление участвовать в ритуалах, исполнять в них определенную роль и будет важнейшей действительной причиной, определяющей поведение человека. А эта его ритуальная «роль» и будет его первой собственно социальной ролью, а ритуальный «статус» – первым социальным статусом. Не случайно П.А. Флоренский, например, считал именно культовую деятельность, – «перводеятельностью», то есть первой, собственно, человеческой формой коллективного взаимодействия, которое конституировалось в процессе исполнения «соборного культового ритуала».
И надо сказать, что действительно объективная социальная наука, в последнее время, всё больше внимания уделяет необходимости учета и понимания убеждений и верований людей в качестве важнейшего фактора, определяющего их поведение. Так один из крупнейших историков 20 века М. Блок утверждал, что «глубинная природа социальных обстоятельств заключается в их ментальности»265. Э. Гидденс, говоря о государстве, специально отмечает, что для понимания его происхождения «необходимо обратиться к рефлексивности людей, которую упускают из виду многие теории формирования государств»266. В несколько иной перспективе, однако, схожее, по сути, понимание соотношения религии и государственности, развивает немецкий мыслитель К. Шмитт, принадлежащий к едва ли не противоположной англо-американскому эмпиризму и «социологизму», интеллектуально-культурной традиции. В работе с характерным названием «Политическая теология», он пишет: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия. Не только по своему историческому развитию, ибо они были перенесены из теологии на учение о государстве… но и в их систематической структуре, познание которой необходимо для социологического рассмотрения этих понятий»267. И в другом месте принципиальное утверждение: «ни одна политическая система не может пережить хотя бы одно поколение при помощи голой техники утверждения власти. Политическое предполагает идею, ибо нет политики без авторитета и нет авторитета без этоса убеждения»268. Не комментируя эти положения, отметим, что, по сути, представления о сакральном истоке государственности в «снятом» виде сохраняются и в преобладающей в современной социальной науке трактовке государства как института, обладающего специальным аппаратом, монополизирующим легитимное, то есть признаваемое большинством общества правомерным, законным, применение насилия.
Завершая рассмотрение государства как высшей формы организации общества,– «единицы выживания высшего ранга»269, по глубокой и точной характеристике Н. Элиаса,– можно сделать вывод, что исходным основанием государственности как определенного качества социальной организации являются потребности индивида: потребность в наличии определенного социального порядка и потребность в определенной системе ценностей, опирающейся на экстраутилитарные, трансцендентные ценности. Соответственно, необходимым основанием государственности является идеология – система идеальных представлений, постулирующих наличие выходящих за пределы конечного индивидуального существования, объективных ценностей, полагающих «общий смысл» деятельности (жизни) индивида. Эти ценности служат также и фундаментом права как сущностно необходимого для государства феномена. Государство вообще, таким образом, может быть определено как объективно-необходимая правовая форма властной организации цивилизованного общества, обеспечивающая его целостность и структурированность посредством поддержания определенного ценностно-нормативного социального порядка.
Глава
I
V. Идеология и язык, наука, образование
§1. Идеология и язык
Всякое исследование идеальных представлений будет, очевидно, неполным, без обращения к анализу языковых форм их выражения. Ведь язык – это первичная репрезентация действительности, и, согласно современным научным представлениям: «Важно, что полифоничный естественный язык, может нести больше скрытого смысла, нежели конкретные научные представления, отраженные в языке науки. При этом структура языка содержит культурный код, определяющий способ мировосприятия данной культуры, а его грамматика в неявном виде заключает в себе развернутые представления об устройстве социального универсума определяющие мышление и поведение людей»270. Выше, на основе рассмотрения релевантных задачам нашего исследования научных данных о происхождении и сущности власти и государства, было выработано определённое понимание природы этих феноменов и показана их сущностная связь с идеологическими представлениями людей. Ниже представлены результаты этимологического и семантического анализа круга понятий, непосредственно относящихся к восприятию и оценке власти и государственности вообще. Проводя этот анализ, мы исходили из того факта, что язык есть непосредственный «участник» и объективный «свидетель» становления государственности. Более того, как показал Витгенштейн: «Представить себе какой-нибудь язык – значит представить некоторую форму жизни»271.



