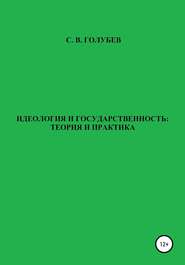 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Поскольку взаимодействие есть способ существования индивида, а значит, и способ приспособления его к среде обитания, установление властных отношений между индивидами, являющееся необходимым средством организации взаимодействия, представляет собой также и необходимое, собственно человеческое, средство приспособления к этой среде. Человек, как разумное существо, обладает способностью планировать свои действия и широким диапазоном приспособляемости. Реализация этих качеств невозможна при отсутствии общеобязательного порядка взаимодействия и требует подчинения индивидов этому порядку как своего необходимого условия. Так как такое подчинение осуществляется властью, только наличие ее в обществе позволяет индивиду использовать даваемые разумом широкие возможности приспособления к среде обитания и рассчитывать на достижения планируемых им результатов деятельности. Поэтому для человека подчинение (власти) есть необходимое условие приспособления (к среде обитания).
Э. Гидденс в «Устроении общества» так выразил эту мысль: «власть не есть просто ограничение или принуждение, она представляет собой источник способностей индивидов добиваться запланированных результатов»2121. В этом отношении, власть, в самом общем смысле, может быть определена как внешнее (внутреннее – разум), необходимо присущее обществу, средство организации жизнедеятельности индивида. Другими словами, власть (в качестве своего рода «разума общества»)является объективно необходимым средством обеспечения соответствия между внутренней и внешней формами организации жизнедеятельности индивида. Если у животных такое соответствие достигается, прежде всего, посредством «власти» инстинктов и предполагает ограниченную вариативность поведения, то для человеческого общества становится необходимым наличие власти как дополнительного, надрефлекторного регулятора поведения – деятельности индивидов. Можно сказать, что разум, умеряющий инстинкты и являющийся внутренним регулятором человеческой деятельности, требует власти как своего внешнего социального эквивалента. Власть есть свое иное для человеческого разума, так же как общество в целом, – свое иное для индивида.
Поскольку власть представляет собой «жизненно-мировую универсалию» и «всепроникающий» социальный феномен, её конкретное содержательное определение предполагающее отграничение ее от других феноменов социального бытия, является крайне сложной, едва ли имеющей «окончательное» решение задачей. Во всяком случае, целесообразно, как представляется, исходить из того, что власть в сущности своей есть нечто связанное и с социальной действительностью в целом, и с взаимодействием индивидов, а значит и непосредственно с процессом их жизнедеятельности, и с миром ценностей. Можно сказать поэтому, что её функциональная необходимость для общества обусловлена тем, что она, устанавливает определенные нормы взаимодействия и побуждает соблюдать их, то есть признавать эти нормы в качестве ценностей. Другими словами, власть (в чём и заключается её нравственная, духовная ценность, то, почему она «от Бога») побуждает индивида воплощать в своей деятельности ценности и придает им, тем самым, действительность, обеспечивая взаимосвязь социальной действительности и ценностей. Исходя из этого, можно предложить в качестве предварительного, следующее определение власти в «общем смысле», – власть (ее функция), в сущности своей есть способ (средство) установления нормативного порядка взаимодействия в группе, основанного на принятии (группой), общих ценностей.
Заметим, что предложенное определение строится с помощью общих понятий: порядок, норма, ценность. Они не принадлежат какой-либо конкретной науке, но широко употребляются в науке вообще и в философии, обладая в то же время достаточно определенным содержанием. Важно также, что это не произвольно сконструированные или употребляемые в специальном смысле понятия. В сравнении с понятиями «порядок», «норма», «ценность», становится более явной метафоричность, образный характер понятия «воля». Оно, как известно, было центральным в учениях таких представителей философского иррационализма как А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Неслучайно о воле, что также хорошо известно (и весьма характерно), любят поговорить писатели поэты, в общем, художники всех «мастей», и, – идеологи. Именно эти последние создали, вслед за Руссо, такие «произведения» как «воля»: «нации», «господствующего класса», «всего прогрессивного человечества». Отметим ещё, что воля, собственно, есть частный случай силы, именно духовная сила. Но «духовная сила» есть нечто трудноопределимое, ее нельзя зафиксировать и измерить, а значит нельзя и изучать научно. Это тем более невозможно по отношению к «силе власти» или «властной воле». Порядок же есть нечто определенное. Его можно зафиксировать и осмыслить, представить понятийно и математически. Он всегда доступен внешнему наблюдению и измерению.
О воле, также можно сказать, что, в действительности, экзистенциально, её слабость (ср.безвольный человек) заключается, прежде всего, именно в неспособности к упорядоченным действиям, к следованию определенным нормам и к принятию определенных ценностей. Напротив, сильная воля проявляется для внешнего наблюдения именно как «жёсткая» упорядоченность жизнедеятельности, неуклонная последовательность в достижении определенных целей-ценностей. В этом же, в полноте и последовательности установления определенного нормативного порядка в обществе, а не в частом применении силы, заключается, в действительности, и сила власти. Для иллюстрации: «сила власти» в США опирается не столько на репрессивный «аппарат», сколько на общественный консенсус по базовым ценностям, которые разделяются и жителем Гарлема и Президентом, и выстроенной на этой основе очень разветвленной системой правовых норм регламентирующих весьма широкий круг вопросов. С другой стороны, в России, например, отсутствие в последние годы такого консенсуса влечет за собой повышенную «подвижность» правовых норм, и как следствие, неспособность власти установить стабильный нормативный порядок, в чем и состоит ее слабость. И никакой рост «аппарата» и/или «силовых структур», никакие волевые усилия отдельных личностей или «классов», принципиально здесь ничего изменить не смогут. В завершение рассмотрения «воли» как возможного «фундамента» власти, стоит напомнить, наверное, также, что то, что власть, в сущности своей, не может быть понята как порождение воли, результат индивидуальных свойств и устремлений, следует и из логики системного подхода, согласно которому свойства целого (более сложной системы) не могут быть выведены из свойств (и не существуют как свойство) элемента (менее сложной системы)213.
Если концепции, исходящие из общего понимания власти как свойства, способности индивида несостоятельны, то можно сделать вывод, что происхождение и сущность власти могут быть поняты только на основе представления ее в качестве необходимого, характерного свойства социальной организации в целом. Соответственно, действительно объективное научное рассмотрение феномена власти, следует начинать с анализа результатов эмпирического изучения первичных, естественных форм организации социальной жизни людей. Первой формой социальной организации человеческого общества, как известно, была родовая организация, имеющая своим основанием культ (сакрализованный авторитет) предков. Поскольку власть возможна только в рамках определенной социальной организации и является ее свойством, можно предположить, что она (власть) «вырастает» из того же основания. Другими словами, фундаментом, началом власти (как и культуры) является культ предков, сакрализованный авторитет старших. Это принципиальное положение, опирается, как будет показано ниже и на общую логику организации социального взаимодействия, и на полученный в ходе конкретных научных исследований «массив» эмпирических фактов.
Логика говорит о том, что уже в силу того, что власть существует в любом обществе, она должна иметь естественно-необходимое, объективное основание. Объективно необходимым для существования любой группы (системы) является поддержание ее целостности и структурированности. А естественной, изначальной формой такого поддержания в примитивном сообществе является, как было показано, половозрастная иерархия. Что, опять же, совершенно закономерно, поскольку старший обладает большим опытом и, также способностью физического принуждения по отношению к младшему. Более того, младший на начальном этапе своей жизни находится в полной зависимости от воли старшего. Но власть старшего над младшим не сотворена старшим, а есть объективно необходимое следствие естественного хода вещей и обязательное условие выживания группы и, вообще, вида. Соответственно, поддержание власти старших оказывается жизненно-важным для существования примитивного сообщества. Заметим, «в скобках», что в действительности, а не в теории, то, что старший обладает властью над младшим означает, прежде всего, то, что он должен исполнять обязанности старшего по отношению к младшему даже вопреки своей воле. Эти обязанности, в целом, предопределены естественным образом, а возможность их исполнения старшим основана, в частности, на его способности провести свою волю в отношении младшего даже вопреки сопротивлению последнего. Поскольку поведение человека регулируется как естественно-биологическими, так и надбиологическими, сверхприродными факторами, поддержание власти старших должно помимо естественно-природного опираться и на сверхприродное основание. Очевидно, что в примитивном сообществе такое основание могло быть обеспечено только посредством сакрализации естественно-природного в своей основе авторитета старших, то есть посредством установления культа предков.
Если говорить об эмпирическом изучении взаимосвязи культа предков и властной организации примитивных обществ, то в этом отношении весьма показательны результаты, полученные В.В. Бочаровым, посвятившим специальную работу исследованию происхождения и сущности власти на материале конкретных политантропологических исследований. Он утверждает, что «отношения между старшими и младшими в обществах первичной формации представляли собой своего рода первоэлементы социальной власти, возникшие на основе критерия выживания системы. Именно внутри этих отношений впервые сложился такой механизм социально-психологического принуждения как ритуал, именно эти отношения отражали самые ранние идеологические представления наиболее характерным из которых был культ предков»214. По Бочарову, культ предков в той или иной степени проявляющийся у всех первобытных народов «это тип идеологических представлений, сформировавшийся в рамках магического мировоззрения… путем закрепления за старшими господствующего положения в обществе»215. Ученый подчеркивает, что «сведение понятия власти или политической власти к возможности физического принуждения… представляет собой вольную или невольную вульгаризацию этого явления»216. Он считает, что власть в сущности своей связана со становлением социальных норм поведения «именно процесс возникновения социальных норм поведения можно считать и становлением властных отношений, так как следование норме есть в то же время подчинение», – поэтому, – «проблема происхождения власти упирается в проблему возникновения первых социальных норм поведения»217.
Социальные нормы поведения изначально фиксируются, главным образом в ритуалах, которые, регулируя социальное взаимодействие, играют роль средств управления поведением индивидов. Ритуал это, по-видимому, первый социальный институт, первоформа, «зародыш», из которого развились если не все, то очень многие социальные институты. А.К. Байбурин, в работе специально посвященной значению ритуала в традиционной культуре, пишет: «Ритуальная реальность с точки зрения архаического сознания – отнюдь не условность, но подлинная, единственно истинная реальность», и «для первобытного человека утилитарная прагматика лишь необходимое условие для осуществления высших сакральных целей»218. Говоря о ритуалах, принципиально важно отметить, не только то, что ритуал – это первый социальный институт, исполняющий управленческие функции, но и то, что в человеческом обществе, в отличие от животного мира, все ритуалы изначально имели сакральное (наряду с естественно-природным) основанием. Культ предков, выражавшийся в определенной системе ритуалов и был первой естественно-необходимой формой их систематизации (сведения в некое взаимосвязанное единство) и сакрализации. Таким образом, именно и только культ предков мог служить системным основанием для властной организации архаического общества.
Эта роль культа предков зафиксирована политантропологами в ходе эмпирических исследований. «При исключительно вербальном способе передачи социальной информации в процессе общественного воспроизводства, – пишет В.В. Бочаров, – старшие являлись ее единственным источником. Культ предков, который в реальной жизни закреплял за старшими господствующее положение в обществе развивался вместе с эволюцией социально-политических структур»219. Говоря о том, какие общественно-необходимые функции реализовывались посредством исполнения составляющих культ предков ритуалов, следует выделить две основополагающие: поддержание и укрепление «экзистенциального» единства членов сообщества, и охранение и укрепление его иерархии. Как пишет В.В. Бочаров: «Воздействие этой идеологии (культа предков С.Г.) на формирование поведения представителей социума осуществлялось через ритуал, который… устанавливал психологическую сопричастность членов группы и узаконивал в их глазах существующую в обществе иерархию»220.
Таким образом, культ предков – это адекватная форма и эффективное средство обеспечения в архаическом обществе таких фундаментальных для любой системы качеств как целостность и структурированность, тождество и различие, на языке Гегеля. Можно сказать, культ предков обеспечивает не просто «сопричастность» и «признание иерархии», а нечто большее, – чувство слитности, единства-общности (тождество) и чувство иерархии ранга, своего места (различие) у членов рода, поэтому и является основанием социальной организации последнего. Но поддержание единства, –целостности и иерархичности – структурированности, является собственной функцией управления в любой системе. В этом поддержании и состоит главная задача власти в обществе.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что значение культа предков как фактора социальной организации совпадает с предназначением власти. Здесь важно отметить, что и в понятии «культ предков», и в понятии «власть» содержится идея установления – поддержания единства – целостности и иерархичности221-структурированности. Культ предков, по своему понятию, содержит моменты единства, приведения к общему предку и иерархии, подчинения старшим, их культа. Стоит отметить также, что культ предков, по сути, выступает в качестве естественно складывающейся, первичной формы удовлетворения потребности человека в экстраутилитарных ценностях, шире говоря, во включенности в сферу духовных значений, духовный универсум.
Ясно, что, во всяком случае, в архаическом обществе эти ценности могли быть санкционированы только религией. Поскольку они служили основанием всей системы социальных норм, можно констатировать, что человек родового общества объективно имел потребность именно в религии, конкретно, в культе предков. Необходимо отметить, что в силу физиологических особенностей человека (долгое взросление и т.д.) жесткая регламентация брачно-семейных отношений (не только сексуальных, но и распределительных, например), направленная на установление и безусловную стабилизацию определенной формы воспроизводства человека была необходимым условием выживания человеческого рода. Соответственно, такая регламентация должна была быть важнейшей первичной функцией власти, а культ предков был институтом, предоставляющим для этой регламентации необходимое сакральное основание. Можно предположить, поэтому, что религия – культ предков и власть изначально не только всеобщие, но и взаимообусловленные, даже взаимопорождающие феномены, и необходимые условия человеческого существования. Впрочем, если какие-то феномены социального бытия фиксируются в качестве всеобщих, то можно априори предполагать, во первых, то, что каждый из них входит в число необходимых условий существования социума, и, во-вторых, то, что между ними имеется сущностная взаимосвязь. Как представляется, относительно культуры, религии и власти можно вполне определенно утверждать и первое и второе.
Взаимообуславливающая связь культовых, магических ритуалов, обрядовых действий и власти надежнейшим образом удостоверена всем массивом этнографических и политантропологических данных. Начиная со знаменитых исследований Дж. Фрэзера и вплоть до трудов современных политантропологов, установлено, что важнейшей особенностью мировоззрения членов архаических обществ, определявшей все их проведение была безраздельная вера в магию. Приведем здесь несколько свидетельств из работы одного из классиков антропологической науки Б. Малиновского. «Традиция, которая как мы не раз подчеркивали, господствует в первобытном обществе – пишет Малиновский, – находит свое концентрированное выражение в магическом ритуале и культе»222. Другими словами, безличная традиция, имеющая сакральное основание и ритуальные культовые опоры, является изначальной формой социального управления, регулирования, она определяет, задает порядок социального взаимодействия в группе. Управленческие функции принадлежат тому, кто является охранителем – толкователем традиции, жрецом культа, тому, кто руководит ритуальным обрядом. По словам Малиновского «магия – это специфическая и уникальная власть, которая … передается волшебной силой обряда». В качестве своего рода резюме он пишет: «Религиозная вера придает устойчивость, оформляет и усиливает все ценностно-значимые ментальные установки, такие, как уважение к традиции <…> Раскрытие этой культуро-творческой функции (сочетающейся с властно-творческой С.Г.) магического мифа полностью подтверждает блестящую теорию о происхождении власти и монархии, развитую Джеймсом Фрезером в «Золотой ветви». Согласно сэру Джеймсу истоки социальной власти следует главным образом искать в магии»223. Показательно и заключение современного исследователя В.В. Бочарова: «универсальным явлением для синполитейных обществ была вера в магию или магическая идеология»224.
На основании вышеприведенных фактов можно вполне основательно утверждать, что в архаическом обществе индивид мог рассчитывать на сколько-нибудь заметное и постоянное влияние на окружающих только акцентируя свое обладание какими-либо магическими, сверхъестественными способностями. В действительности примитивного сообщества, индивид тогда и только тогда мог «навязать свою волю» другим (другому) индивидам, когда эти последние были убеждены (как и он сам, по-видимому), что он действует не по своей (а по высшей) воле. Политантропология, насколько известно, не знает ни одного факта, когда власть вождя в архаическом обществе не имела бы сакрального основания, не сочеталась бы с исполнением, вернее, не выражалась бы, прежде всего, в исполнении культовых функций, ритуальных, обрядовых действий. Напротив, все известные на этот счет факты, установленные, кстати, не только политантропологами, но и историками европейских народов, (да и Египет, Китай, инки, ацтеки), свидетельствуют об обратном. Вождь – это, прежде всего, сакральная фигура, первоначально не столько даже фигура, сколько должность, должность представителя предков (≈ богов), глашатая их воли. Показательно, что вопреки «кабинетным» рационалистическим конструкциям, не физическая сила (не говоря уже о мифической «собственности»), а физические недостатки, наличие у индивида физических и психических отклонений часто служило основанием для получения высокого статуса в примитивном сообществе, поскольку по убеждению членов последнего такие отклонения свидетельствовали о сверхъестественной «отмеченности» и, следовательно, не могли не вызывать большего или меньшего «священного трепета». Как сообщает В.В. Бочаров: «Африканский материал и данные по другим первобытным народам свидетельствуют о признании знахарями, колдунами, ведунами, т.е. людьми, имевшими особую власть над магическими силами, индивидов с физическими недостатками или ярко выраженными психическими отклонениями. В доколониальных африканских обществах «аномальность» такого лидера носила институциализированный характер», и, далее, что касается сакрального характера власти вождя: «вожди в обществах данного типа, являясь верховными жрецами культа предков, концентрировали в своих руках и функции магического лидера»225.
Общий вывод, следующий из конкретных результатов изучения реальных примитивных обществ, таков, – на сегодняшний день не существует эмпирической базы для понимания власти вообще, как способности к физическому принуждению, для выведения власти из индивидуальной воли, тем более, из отношений собственности. Находящимся в соответствии с фактами, может считаться только такое понимание происхождения и сущности власти, при котором власть представляется в качестве объективно необходимого свойства социальной организации, упорядочивающего начала, которое коренится в потребности индивида в упорядоченности взаимодействия, и имеет как естественно-природное (половозрастная иерархия) так и экстраутилитарно-ценностное, сакрально-идеологическое (культ предков) основание.
Таким образом, власть, в сущности своей, может быть определена как объективно-необходимый способ самоорганизации социальной системы, посредством ценностно-нормативного упорядочения связей и отношений между ее элементами. Для индивида, носителя власти, она выступает как ролевая, статусная функция, обязанность и (ресурсообеспеченная) способность предпринимать действия, направленные на установление и поддержание обязывающего ценностно-нормативного порядка взаимодействия.
Значение власти, как фундаментального социального феномена, способа самоорганизации общества, проявляется, в частности, в том, что различные формы общественного устройства, их динамика могут быть объяснены как следствие различных форм-способов осуществления власти, их динамики. Наряду с теорией общественного развития, построенной на основании различения «способов производства», может быть построена подобная теория на основании различения «способов управления». Для демонстрации ее возможности и возможностей (объяснительных и эвристических) предложим краткое рассмотрение истории в ракурсе власти.
Мы исходим из того, что в принципе возможны три основных типа, способа осуществления власти, поддержания господства, управления и т.п.: принуждение-насилие, стимулирование и манипулирование. В любом обществе, да пожалуй, и в любой группе применяются все три. Но в разных обществах они играют разные роли. В одном типе общественного устройства преобладающим способом управления может быть насилие, в другом манипулирование. Предлагаемые термины употребляются нами в общепринятом смысле, без всякой оценочной нагруженности. Принуждение, – это управление поведением индивида посредством применения или угрозы применения силы, лишения необходимых средств и условий существования. Стимулирование, – это управление посредством дифференцирующего распределения материальных и социальных благ. Манипулирование, – это управление посредством идеологического воздействия, оперирования оценками и смыслами. С точки зрения основного способа социального управления ход истории в целом может быть охарактеризован как постепенный переход от насилия к манипулированию. Последний способ является собственно современным. Поэтому и актуален лозунг «Мир без насилия», насилие «выходит из моды», его удельный вес в поддержании господства в рамках современного типа общественного устройства уменьшается. Более того, если в прежние времена манипулирование часто использовалось для подготовки применения силы, то сегодня сила используется, как правило, для устранения препятствий манипулированию. Если в «примитивных» обществах основным способом управления было принуждение, то соответственно логически оправданным было бы ожидать, что в современных обществах («конца истории») таким способом будет манипулирование.
Традиционное общество, например средневековая Европа, отличается известным равновесием всех трёх способов, что проявляется в четком различении трёх сословий. Духовенства – профессиональных операторов смыслами и оценками, дворянства как олицетворенной силы, и предпринимательства, стремящегося к материальным благам – стимулам. «Капитализм» был общественным строем, в котором преобладало стимулирование как способ управления во всех сферах общественной жизни. Соответственно третье сословие было господствующим, а экономическая мощь главной составляющей силы власти вообще. Заметим, что «капитализм» не мог быть первичной фазой общественного развития, ибо для стимулирования надо созреть (детей трудно стимулировать), в частности желательна секуляризация, «разумный эгоизм» и т.п., и, конечно определенная материально-техническая база.



