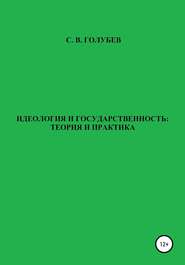 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Государство, будучи формой общества, в качестве реального социального явления, также имеет форму, собственную организацию, свое конституционное устройство. В современном мире, в соответствии с принятыми в нём нормами цивилизации и культуры, оно, как правило, получает непосредственное выражение в специальной форме, – в виде Конституции. Конституция (которая согласно современным представлениям как раз и определяет форму государственного устройства) по существу своему, есть, собственно, не что иное, как письменная фиксация, юридическое закрепление определенных представлений об основаниях, идеалах, ценностях и целях жизнедеятельности человека и общества, или, что то же, определенной идеологии. Последняя оказывается, таким образом, основанием конституции, подлинной формой государства, задающей принципиальные характеристики-параметры его устройства. Идеология, в свою очередь выступает в различных конкретных формах: религии, социально-политической концепции, морального учения и т.п. В качестве источника-основания Конституции, в современной культуре, она, как правило, имеет эклектичную переходную форму, в которой сочетаются как религиозные, так и светские положения из различных учений.
Исходя из вышеизложенного, можно построить следующую системную иерархию социальных форм или видов социальной реальности: жизнедеятельность индивида – общество – государство – идеология. Здесь каждый предыдущий элемент-вид оказывается содержанием последующего, а последующий формой предыдущего. Помимо онтологического данная иерархия имеет и гносеологическое значение, так как, раскрывая действительную логику взаимосвязи идеологии и государственности, задает объективно необходимый алгоритм ее (взаимосвязи) исследования. Начинать его, согласно этому алгоритму, следует с соответствующего рассмотрения жизнедеятельности индивида.
Переходя к такому рассмотрению, отметим, прежде всего, что необходимым и достаточным условием существования индивида является удовлетворение его потребностей, которое и составляет содержание и цель его жизнедеятельности. Потребность вообще есть состояние нужды организма. Первая потребность организма как такового состоит в существовании, в сохранении основания собственного существования. Так как человек, в том числе и как биологический вид, «организм» может существовать только в обществе, его наличие есть первая исходная потребность человеческого индивида и, соответственно, последняя, конечная цель его жизнедеятельности. В этом и заключается его социальная природа. В силу того, что индивид социальное и разумное существо, потребности удовлетворяются им, в определенной социально обусловленной форме, и как непосредственный импульс к деятельности, осознаются в качестве предметно направленного интереса, что и отличает человека от животных. Интерес, по сути своей есть очеловеченная социализированная потребность. Он является непосредственной причиной деятельности индивида, связующим звеном его системы потребностей и социальной реальности. Интерес, в отличие от потребности, присущ не организму как таковому, но субъекту. Так потребность жить для индивида конкретизируется, как интерес жить в обществе. Причем для конкретного индивида, как интерес жить именно в конкретном, определенным образом устроенном, обществе. В практической возможности реализации этого интереса, заметим, и состоит свобода173.
Жить в обществе, для индивида означает необходимость руководствоваться в своей деятельности некой общей, общественной мерой. Эта необходимость обусловлена тем, что человеческая деятельность как таковая есть взаимодействие и может быть эффективной, только если осуществляется по определенным правилам обязательным для всех его участников*174*. Здесь опять же можно привести в пример язык как «средство общения». Поэтому наличие общественной меры полагающей эти правила является, важнейшей жизненной потребностью (конкретизацией потребности в обществе как форме жизнедеятельности), точнее говоря, – фундаментальным, жизненно важным интересом индивида и необходимым основанием его существования. Это, в свою очередь, делает необходимым наличие в обществе некой формы и способа обязывающего установления общей меры, надындивидуального критерия правильности, адекватности действий конкретных индивидов. Опираясь на результаты, полученные в предыдущей главе, но пока в сугубо предварительном плане, можно сказать, что указанная мера определяется в рамках идеологии (в этом и заключается ее главная социальная роль), – в утверждаемых ею представлениях о высшем Благе, социальной справедливости и т.п., (на основании которых, собственно, и регулируется взаимодействие индивидов), и устанавливается, санкционируется властью, государством.
Поскольку общая мера-критерий упорядочивает, регулирует взаимодействие индивидов, она есть социальная норма. Как таковая она опосредует удовлетворение всех человеческих потребностей и потому необходима для жизнедеятельности индивида. В качестве того, что имеет непосредственное значение для жизнедеятельности, норма есть ценность, а идеология, соответственно, есть форма полагания системы ценностей общества. Этот «абстрактно-логический» вывод вполне подтверждают и эмпирические данные современной науки. Так крупнейший российский физиолог П. В. Симонов, классифицируя потребности человека, говорит, что на «стыке социальных и идеальных» потребностей, есть: «потребность в идеологии нормирующей удовлетворение всех других витальных социальных духовных потребностей человека. Без потребности следовать нормам, принятым в данном обществе, существование социальных систем оказалось бы вообще невозможным». Раскрывая этот тезис, Симонов отмечает, что данную потребность можно, вслед за Гегелем, рассматривать и как потребность в религии, но только если «речь идет о религии как мировоззрении, удовлетворяющем идеальную потребность человека в познании смысла жизни, в абсолютных эталонах добра и зла. Тогда и атеизм можно рассматривать, – по словам В. И. Вернадского, – как частный случай «религии наизнанку». Иными словами, свойственная человеку потребность в идеологии, религии обусловлена тем твёрдо установленным современной наукой фактом, что он действительно «жив не хлебом единым», помимо физиологических потребностей (организма) у него есть и духовные интересы (личности). Именно эти последние и делают человека человеком, и лежат в основании общества. Как пишет Л.Н. Митрохин, раскрывая «социальные корни» религии: «Социально целесообразная деятельность человека возможна лишь в том случае, если ее мотивы выходят за рамки его потребностей и забот как конечного смертного существа»175.
Важно отметить, что потребность индивида в наличии социальной нормы, – то есть образца действия (как взаимодействия), – это конкретизация потребности в упорядочении среды обитания, окружающего мира. Из нее же и вырастает у человека «потребность в идеологии» как источнике полагания системы социальных норм упорядочивающей действительность вообще. Как говорит об этом, крупнейший, наверное, российский исследователь феномена идеологии В. П. Макаренко: «Человек строит идеологии, как схематические образы социального порядка»176. С этой точки зрения, идеология, вообще, может быть определена как форма построения мировоззрения, картины мира, а религия как первая, естественно складывающаяся форма идеологии. Поскольку идеология нормирует взаимодействие индивидов, важнейшей, видимо даже «первичной», собственно идеологической проблемой, оказывается обоснование «правильности» устанавливаемых ею норм. Иначе говоря, обоснование того, что данная идеология обеспечивает правильное= соответствующее природе=справедливое распределение ресурсов, взаимосоотнесение статусов и ролей участников взаимодействия. Очевидно, что, вообще говоря, в принципе, таким, правильным, справедливым взаимосоотнесением, в самом общем виде, могут считаться либо социальное равенство, либо социальная иерархия. Это различие, как было показано в первой части работы, и составляет одно из принципиальных оснований расхождения противоборствующих идеологических концепций. В силу того, что социальная норма определяется идеологией, а санкционируется, как отмечалось выше, государством, проблема социального равенства / иерархии оказывается не только идеологической, но и политической проблемой. Заметим здесь также, что именно общая связанность с нормированием человеческой жизнедеятельности (идеология задает содержание, а власть, государство обязывающую, как правило, правовую форму социальной нормы) и обуславливает сущностную взаимосвязь идеологии и государственности.
В идеологических учениях представление о справедливости или несправедливости социального равенства или социальной иерархии, в конечном счете, обосновываются обычно ссылкой на «естественный порядок вещей». Это было продемонстрировано в ходе историко-философского экскурса в настоящей работе. Можно добавить, что и марксизм, например, роль важнейшего доказательства возможности построения справедливого «Коммунистического» общества будущего, отводил, как известно, учению, о «первобытнообщинном коммунизме», – как обществе «естественного» социального равенства людей. Да и в религиозных доктринах, и социальная иерархия (в официальных церковных учениях), и социальное равенство (в учениях различных сект) представлялись в качестве «Божественного установления», которое «заодно» подтверждало и «естественность» соответствующего государственного устройства. Но «естественный порядок» как таковой не фиксируется эмпирически. Его понятие – не есть результат простого обобщения опытных данных, а, напротив, продукт абстрактной концептуализации, причем такого рода, что его конкретное содержание находится в высшей степени зависимости от принятия тех или иных собственно идеологических предпосылок. Невозможность объективного доказательства в рамках аргументации отсылающей в качестве ultima ratio к «естественному порядку вещей» (или, что то же, к «Божественному установлению») переводит дискуссии о «социальной справедливости», составляющие существо идеологических противоречий, из сферы познания в сферу морали, замещая, тем самым, аргументы ценностными суждениями, то есть, практически обвинениями, а собственно дискуссию – борьбой. В этой связи, представляется целесообразным провести анализ современных научных данных релевантных рассмотрению проблемы социального равенства / социальной иерархии в нашей работе.
Прежде всего, отметим, что согласно общепринятому сегодня в науке системному подходу иерархичность является одним из основных принципов характеризующих строение и функционирование системы как таковой. Причем, чем более сложной является система, тем более он значим для нее. Строго говоря, природа – эта «стихия неравенства», по характеристике Гегеля, не только не «терпит пустоты» и не «знает атомов», но и, во всяком случае, живая природа, не «терпит» и равенства, – а, напротив, устроена иерархически. Начиная с простейших организмов, иерархичность присуща любым живым системам. Один из важнейших выводов современной микробиологии, полученный в результате обобщения огромного массива эмпирических фактов, заключается в том, что «принцип иерархической структуры один из характерных атрибутов живых систем»177. В подтверждение и развитие этого положения микробиолог В.А. Энгельгардт, приводит ряд свидетельств авторитетных ученых-биологов, говорящих о закономерности иерархического строения живых систем. «С предельной четкостью, – пишет он, – высказывает свой взгляд П. Вейсс, когда он одному из разделов своей статьи дает заглавие «Иерархии: биологическая необходимость» и далее говорит о том, что «принцип иерархического порядка в живой природе отчетливо выступает в качестве явственно выраженного явления вне зависимости от того, какое философское содержание мы придадим этому термину».
Что касается оговорки о «независимости от философского содержания» термина «иерархический порядок», то можно заметить следующее. Философское содержание этого термина, как и всякое, собственно философское содержание, вполне определенно. Различными по содержанию могут быть и бывают идеологические оценки иерархического порядка. Но науке, как и философии, до них не должно быть дела. Это, – во-первых, а во-вторых, эта оговорка, хотел того П. Вейсс или нет, объективно свидетельствует о проникновении идеологической экспансии (либерального толка) даже в сферу микробиологии. Раскрывая иерархический принцип организации живого Энгельгардт приводит также соответствующие свидетельства известных ученых: Л. фон Берталанфи, С. Патти, Дж. Нидхэма и других. Так, пишет он: «Гробстейн в книге «Стратегия жизни» говорит, что одна из характеристик живого состоит в иерархии структур и функционального контроля. Этот иерархический принцип охватывает все ступени, начиная с атомных и молекулярных явлений и кончая взаимоотношениями в человеческом обществе…»178. И далее Энгельгардт делает принципиальный вывод о том, что важнейшей особенностью биологических иерархий «является возникновение новых свойств, которые никак не могут быть вызваны или предсказаны на основе экстраполяции свойств тех элементов, из которых рассматриваемая иерархическая система построена… более высоколежащий иерархический уровень оказывает направляющее воздействие на уровень нижележащего порядка, т.е. подчиненный: последний приобретает новые свойства, отсутствовавшие в его изолированном состоянии»179. Иными словами, даже на уровне простейших организмов, проявляется закономерное свойство системной организации, заключающееся в том, что всякий элемент системы есть то, что он есть, только в качестве элемента, и, соответственно, выпадая из системы, он утрачивает свои важнейшие свойства, более того, как правило, вообще прекращает свое существование. Это обусловлено тем, что свойства, присущие элементу и определяющие его функции и значение, «делегированы» ему «сверху», с более «высоколежащего иерархического уровня». Так устроена жизнь в своих основах, – это непреложный вывод биологической науки.
Если говорить о высших животных, то иерархическое начало, как показывает изучение поведения животных в группе, является фундаментальным для любого естественного сообщества. В животной среде: «все без исключения члены сообщества неравны»180. В этологии этот феномен жесткой иерархической дифференциации особей в группе получил название «порядок клевания». И как установлено этологическими исследованиями: «иерархическая зоосоциальная мотивация оказывается сильнее родительского инстинкта»181. В этом проявляется глубокая закономерность социального бытия, ибо, если существование особи невозможно вне группы, а группа имеет иерархическую структуру, то существовать в группе, собственно, жить и означает для особи занимать определенное место в групповой иерархии. Следовательно, соответствующая зоосоциальная потребность является витальной.
Как указывает П.В. Симонов: "Одной из сильнейших и фундаментальнейших потребностей высших живых существ является потребность занимать определенное место в стайной иерархии"182. Эта иерархия, как установлено конкретными исследованиями поведения животных, обладает выраженной устойчивостью и, решающим образом, влияет на характер отправления важнейших жизненных функций у всех членов группы. Практически все эмоциональные проявления животных, даже такие, казалось бы, сугубо инстинктивные, как голод, страх, ярость, половое влечение, обусловлены ранговой структурой их взаимоотношений, зависят от места, занимаемого той или иной особью в стадной иерархии. Иными словами, конкретная форма поведения животного в группе определяется скорее его ранговым социальным статусом, чем его наличным, в данный момент, физиологическим состоянием. Многочисленные эксперименты показали, что реакция на один и тот же раздражитель у высокоранговых и низкоранговых особей существенно различается. Необходимость демонстрировать соответствие рангу – «социальная потребность», – может противостоять даже витальным, биологическим потребностям организма183.
Характеризуя иерархическое строение социальных взаимоотношений среди животных и его определяющее влияние на их поведение, П. В. Симонов делает и еще один, имеющий принципиальное значение вывод, о роли иерархической организации, сообщества для его эволюционного развития: «Поддержание сложных иерархических отношений в группе (стаде, стае), – отмечает он, – важный фактор эволюции»184. То есть, как видим, иерархия, как таковая, благотворна для сообщества в целом. Без нее восходящее развитие, то есть собственно усложнение внутренней структуры, группы, популяции, вида, а, значит, и индивида, вряд ли возможно. В этом, надо полагать, проявляется общая закономерность функционирования не только животных сообществ, но и, вообще, любой, сложно организованной социальной системы. Заметим, здесь, что «сложноорганизованность», как таковая, предполагает иерархичность, по логике системного подхода (и, вообще, по логике, в соответствии с понятием), эти качества находятся в прямо пропорциональной зависимости и, второе, априорно-аналитически, выводимо из первого. И наоборот, – равенство, по своему понятию, противоречит усложнению, организации. Усложнение и организация предполагают различение в качестве своего необходимого условия, а равенство сводит различие к тождеству. Как говорит Гегель: «Равенство есть абстрактное рассудочное тождество, которое, прежде всего, имеет в виду рефлектирующее мышление, а тем самым, и духовная посредственность вообще, когда оно встречается с отношением единства к различию»185.
Изучение поведения животных приводит и к совершенно определенным выводам относительно «онтологического статуса» отдельной особи, – её элементарности, «первичности» по отношению к сообществу, популяции в целом. Говоря о социальности животного, известный российский этолог Ю.М. Плюснин, пишет: «Какой бы элемент активности особи мы ни взяли: репродуктивное, кормовое или защитное поведение – все они предполагают соучастие одной, нескольких или многих особей. Пара взаимодействующих индивидов есть простейший элемент сообщества, их взаимодействие элементарный акт. Организованная совокупность таких актов и составляет социальное поведение»186. Конкретные факты, полученные в результате большого числа эмпирических научных исследований, таким образом, не дают никаких оснований для представления отдельной особи, в качестве «первоэлемента» сообщества. Отдельная, «самостоятельная» особь, в естественном состоянии, как явление природы – есть фикция. Одиночное, единичное существование в животном мире может означать только постепенное умирание. Включенность в целое на этом уровне, оказывается столь же необходимым, как и на микробиологическом.
Всякое поведение животных, в действительности, есть не соединение независимых поведенческих актов каждой отдельной особи, а взаимодействие в рамках определенной организационной формы. Такой формой является популяция, а организующим началом необходимо, присущая ей, иерархическая структура. Принципиально важно отметить, что отдельно взятая особь не является «простейшим элементом» популяции, напротив, последняя не возникает в результате соединения особей, а является необходимым условием их существования. Согласно представлениям современной этологии, отмечает Плюснин: «популяция – это социодемографическая система, а не множество независимых индивидов случайно спаривающихся друг с другом. Элементарной единицей популяции является семья, репродуктивная группа… Эта же самая репродуктивная группа выступает основой существования сообщества, основой социальной организации»187. Иначе говоря, социальная организация в животном мире является необходимым следствием естественно-природных закономерностей, и обязательным условием воспроизводства данного вида. Вне такой организации, вне определенной репродуктивной группы существование особи невозможно. Членство в группе не вопрос выбора или спорадическое явление, а витальная потребность для особи, последняя «по природе» своей не способна к индивидуальному существованию. Отсюда следует принципиальный вывод, имеющий важнейшее научно-методологическое и идеологическое значение: «тезис классической экологии и этологии о выгодности социальной жизни для индивида неявно предполагает, что одновременно с социальными формами существует и одиночная. Сегодня подобное утверждение свидетельствует лишь о незнании фактов (подчеркнуто нами, – С.Г.)»188. И ещё одно совершенно определённое заключение о том, что конкретные эмпирические исследования поведения животных не оставляют возможности «рассуждать о социальном поведении и о социальной организации в мире животных как о явлении вторичном, исключительно адаптивном. Необходим взгляд на социальные феномены как на самодостаточные, первичные»189. Таким образом, столкновение с фактами, наука развеивает «туман» понятийных фикций «естественного состояния», которые либеральное сознание, опираясь на собственные фантазии, пыталось противопоставить действительным естественно-природным закономерностям. И сегодня, перефразируя вышеприведенное суждение ученого-этолога, для социальной науки («поведения человека»), можно сказать, что тезис о самодостаточности индивида первичности его «прав и свобод», – «свидетельствует лишь о незнании фактов и, что необходим взгляд на общество и государство, как на первичные феномены». Заметим здесь, что относительно гипотетического «одиночного» существования человека показательно утверждение крупнейшего этолога К. Лоренца. Солидаризируясь с мыслью одного из основателей философской антропологии, он писал: «справедливо постижение А. Гелена, что один человек – это вообще не человек, потому, что человеческая духовность – сверхличное явление»190. В этом утверждении содержится, очевидно, не только глубокая психологическая, но и онтологическая истина.
Резюмируя изучение социального поведения животных, Ю.М. Плюснин выделяет «инварианты социальных отношений». К ним относятся: территориальность, как фиксация места обитания, «вмещающей среды», как предпосылки получения необходимых ресурсов; поддержание определенной формы воспроизводства; «третий инвариант – это отношения, направленные на поддержание порядка, как выражение потребности сохранения статуса каждого индивида»; и четвертый, – «поддержания социального единства», то есть необходимость вступать в чисто эмоциональные, функционально не обусловленные отношения, – «альянсы»191. Территориальность это не только контроль над пространством и его организация, приспособление под собственные нужды, но и форма взаимодействия индивида с прочими членами своего сообщества. Поддержание порядка по Плюснину означает сохранение «асимметричной структуры сообщества», иначе говоря, внутригрупповой иерархии, которая необходима по причине «асимметричности» поведения индивидов. Последняя предопределена тем, что «индивиды разнокачественны по своим половым и возрастным характеристикам, а также по морфофизиологическим особенностям, которые определяют поведенческую индивидуальность. В силу этой разнокачественности асимметрично и поведение индивидов»192. Четвертый «инвариант» означает, что потребность в сугубо эмоциональном неутилитарном общении является витальной для любого социального существа и, соответственно, всякое сообщество должно располагать механизмами и формами ее реализации.
Эти «инварианты», как представляется, действительно являются инвариантами, то есть, обязательны в независимости от уровня организации живых сообществ и входящих в них особей. Ведь и человеческим обществам (во всяком случае, естественным, самодостаточным) необходимо присущи, территориальность; определенная форма семьи и производственных отношений; власть, как средство поддержания порядка; и, конечно, что для людей еще более значимо, различные «альянсы», начиная с культовых, религиозных общностей, и, заканчивая, политическими партиями и «клубами по интересам».
Если говорить о неравенстве в человеческих сообществах, то принципиально важно отметить, что естественно природные половозрастные различия индивидов в рамках социальной системы в целом и, в особенности, в общественном разделении труда изначально предстают как половозрастная иерархия. Последняя есть именно необходимое следствие естественных закономерностей, что особенно очевидно относительно возраста. Юноша и взрослый не просто «различаются», но последний именно старше193 то есть стоит в начале, в голове, возглавляет род-ряд поколений, он руководит, (руками водит ребенка – младшего) направляет деятельность младшего, следующего за ним. У людей старший, не просто сильнее младшего как у животных. Он также больше знает, владеет специальными, в том числе сакральными знаниями, которые считаются жизненно важными в первичных сообществах. Естественной «функцией» старшего является забота о младшем, собственно, обеспечение безопасности и необходимых условий его существования в целом. Это обеспечение требует контроля над условиями существования и поведением, деятельностью младшего со стороны старшего. Относительно половых различий столь же очевидно, что, по меньшей мере, на начальных стадиях развития общества обеспечить безопасность женщины мог только взрослый мужчина, из чего следует не просто «иное», но именно зависимое, подчиненное положение «слабого» пола. Иными словами, в человеческих сообществах внутригрупповая иерархия должна быть скорее даже более необходима и выражена чем в животной среде. Вообще говоря, это очевидно и априори, хотя бы потому, что социальное по определению сложнее биологического, но с безусловной достоверностью установлено и эмпирическими исследованиями политантропологов.194



