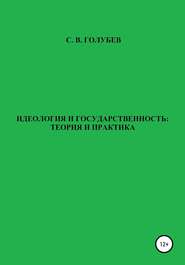 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
В свете полученных результатов, появляется возможность сформулировать новое, отличное от преобладающего в современной социальной науке видение проблемы «идеологического плюрализма», имеющей, очевидно, немалый теоретический и практический интерес. В современном мире существует, как принято считать, значительное число различных идеологий. Разными авторами, как в сфере научного, так и в сфере общественно-политического «дискурса», они по-разному характеризуются, классифицируются и оцениваются. В наши задачи ни в коей мере не входит описание всего этого многообразия, не говоря уже об участии в идеологической полемике. Напротив, поскольку речь идет о философском анализе, наличное эмпирическое многообразие должно быть, очевидно, сведено (или выведено) к неким общим закономерностям-принципам. В данном случае, из приведенной выше таблицы следует, что все существующие и, в принципе, могущие существовать виды идеологических учений, являются не чем иным, как разновидностями, различными спецификациями двух действительно принципиально отличных, более того, противоположных мировоззренческих позиций. Эти позиции можно охарактеризовать, как Богоцентричную и человекоцентричную. Ибо, очевидно, что мерой сущего, может являться либо Бог, либо человек. Третьего не дано. И в данном случае, это не только логическая, но также и онтологическая и экзистенциальная истина. В философии, об этом, со всей определенностью было сказано уже Платоном при разработке полисной идеологии в «Законах». Могут существовать и существуют, таким образом, два основных типа мировоззрения: теистическое (религиозное) и а-теистическое, гуманистическое.
Эта констатация, собственно, вполне отвечает традиционным представлениям, что называется лишний раз, подтверждая их бытийную укоренённость, закономерность. В истории социальной мысли эта закономерность проявляется в существовании двух основных идеологических направлениий, в концептуально-теоретическом плане опирающихся на философские традиции обозначенные нами как платоновская или реалистическая и софистическая или номиналистическая. Как было показано софистическое полагание человека в качестве меры неизбежно приводит к «индивидуалистической дедукции» не только государства и общества, но и морали, религии, права. Именно это обстоятельство, а не поверхностные политические лозунги и партийные программы оказывается решающим для существа дела в идейном отношении. В этой связи, стоит, очевидно, отметить сущностное, принципиальное единство таких, внешним образом, весьма отличных и, зачастую, даже противоборствующих на «политическом фронте» идеологий, как либерализм, социализм и национализм.
«Национализм», в современном общественно-политическом лексиконе, широко употребляемое, и, вообще говоря, очень «расплывчатое» понятие, обозначающее, часто, весьма различные идеологические концепции. Само понятие «Нация», о чём не всегда вспоминают, рождено Революцией152. Его отцы, её деятели, – выученики Руссо, хотели заменить религиозно-подданическую «идентичность» национально-политической, и, объявив себя Национальным собранием, противопоставили «Нацию» – «королю и церкви». Национализм, в принципе, не обязательно а-теистичен. Ясно, однако, что если «Нация» объявляется высшей ценностью, а Бог – не является «национальным достоянием», то мерой оказывается она, а не Он. С другой стороны, поскольку нация может пониматься, а национализмом, как правило, и понимается, в том числе и как природное явление, натуралистически, «метафизическим сущностям», трансцендентному в реальной политической практике национализма практически не остается места. То же касается и сугубо формальной, политико-правовой «национальной (само)идентификации». И, самое главное: поскольку речь идёт об «интересах нации», её общей воле, закономерным образом появляются выразители этой последней, глашатаи «Разума и совести нации», наиболее передовая, сознательная её часть, ведущая за собой (если надо, то и с помощью силы), всех остальных, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть воспроизводится концептуальная схема Руссо, построенная, как было показано, на индивидуалистических и а-теистических предпосылках.
Если говорить о таких «антагонистах», как либерализм и социализм, то идеологические различия между ними также носят внешний, технический характер. Это, как уже отмечалось, различие не целей, а средств. Либерализм, в отличие от социализма не богоборствует открыто, но для обоих учений, человек есть высшая ценность. Социализм, в отличие от либерализма, любит поговорить об «интересах общества», но в действительности, эти интересы оказываются интересами сознательной части последнего, то есть все той же «общей волей» Ж.-Ж. Руссо.
Принципиальное единство либеральной и социалистической идеологий отмечали многие крупнейшие мыслители и учёные, начиная от Ф. Ницще и, заканчивая, И. Валлерстайном. Ницше, этот infant terrible западной философии, часто, однако, «зрящий в корень», – сказал в «Воле к власти»: «Социализм есть всего лишь агитационное средство индивидуализма. Анархизм, опять-таки, – всего лишь агитационное средство социализма», – указав, таким образом, на общее генетическое начало либерализма, социализма и анархизма. То, что индивидуализм, причем именно «эгалитарный» индивидуализм «посредственности», выступает под разными псевдонимами, по Ницше – «одна из обычнейших подтасовок девятнадцатого столетия»153. Ницше, конечно, не самый большой авторитет для «учёных», да и его экспрессивная манера не характерна для научного стиля аргументации. Однако вот уже в двадцатом веке, человек другой эпохи, адепт другой философии, – Ф. Хайек, говорит, по сути, то же самое и, практически, теми же словами: «американские социалисты сознательно совершили подлог, когда присвоили себе звание либералов»154. И далее, тот же автор отмечает имеющее место на деле, «практическое единство» действий либералов и социалистов, указывая на «европейские политические партии, которые либо именуют себя либеральными (как в Великобритании), либо претендуют на то, чтобы их таковыми считали (как в Западной Германии) и при этом, без колебаний входят в коалиции, с откровенно социалистическими партиями155. Обращает внимание Хайек и на то, что такое «практическое единство» проистекает из концептуальных «совпадений» либерализма и социализма, не без юмора замечая, что «Это отнюдь не ново. Еще в 1911 году Л. Т. Хобхаус опубликовал книгу под названием «Либерализм», которую вернее было бы назвать «Социализм»156.
Концептуально-теоретическое обоснование принципиального единства либеральной и социалистической идеологии было дано одним из крупнейших современных социологов И. Валлерстайном. Это обоснование специально разработано им в знаменитой работе «После либерализма», главным образом, в разделе с говорящим названием «Три идеологии или одна? Псевдобаталии современности». Там, в частности, говорится: «По сути дела, тем, что особенно отличало социализм от либерализма … была уверенность в необходимости серьезно помочь прогрессу … Коротко говоря, суть социалистической программы состояла в ускорении исторического развития. Вот почему слово «революция» им больше импонировало, чем «реформа»157. И далее очень любопытные и не лишенные глубины наблюдения, проистекающие, кстати, из «встроенности» валлерстайновского понимания сущности идеологии в его концепцию «мир-системы»: «За фасадом яростной оппозиции либерализму в качестве ключевого требования всех этих режимов (тоталитарных – С. Г.) мы видим ту же веру в прогресс, через производство, которая была евангелием (подчёркнуто нами, – С. Г.) либералов»158. И ещё одна, более чем красноречивая в контексте анализа взаимосвязи либерализма и социализма характеристика: «Хотя ленинизм претендовал на роль идеологии отчаянно противостоявшей либерализму, по сути дела, он являлся лишь одним из его проявлений»159. Нам остаётся только солидаризироваться с этой оценкой и подчеркнуть, что дана она не «походя» и принадлежит отнюдь не Ницше, а одному из самых значительных социальных теоретиков нашего времени.
Приведем и другое, может быть, даже более авторитетное свидетельство принципиального совпадения либеральной и социалистической мысли. Это хорошо известные слова из работы классика социологической науки и либерального мыслителя М. Вебера. В «Политике как призвании и профессии» он пишет: «Всякое государство основано на насилии, говорил в своё время Троцкий в Брест-Литовске. И это действительно так»160. То есть, как видим, по проблеме происхождения и сущности государства, – ключевому вопросу политической идеологии, – имеет место полное единодушие знаменитого либерального социолога и еще более знаменитого «перманентного» революционера, – всё та же «индивидуалистическая дедукция» государства, притом с киническим акцентом на насилие. В качестве комментария, мы отметим еще, что адепт строгой научности Вебер, в данном случае, вполне в стиле идеолога Троцкого не утруждает себя аргументацией. «Доказательством» служит лапидарное «это действительно так». Слова же о «социологическом определении» и т.п., вряд ли могут быть приняты всерьез, ибо всякое действительно научное социологическое исследование должно быть основано на изучении эмпирических фактов, а высказывание «Всякое государство основано на насилии» является априорным. И не просто априорным, а, наверное, даже «априорно-аналитическим», (что в случае Троцкого вряд ли возможно отрицать) когда определение понятия «государство» подменяется «извлечением-раскрытием» предварительно встроенного в него идеологического содержания, очевидным образом присутствующего в концептах, вроде пресловутого «насилия». Добавим еще, что, в свете только что сказанного, особенно красноречивой представляется и оценка одного из крупнейших консервативных мыслителей ХХ века К. Шмитта, отмечавшего согласие «либералов» с «большевиками-марксистами» по вопросу о сущности государства: «Западные либеральные демократы согласны с большевиками-марксистами в том, что считают государство аппаратом, нейтральным техническим инструментом»161.
О сущностном принципиальном родстве либерализма и социализма говорила и русская философская мысль. Прежде всего, в лице К. Н. Леонтьева, много критиковавшего либерализм, особенно в его культурных основаниях и первым, наверное, (не только в русской мысли) указавшим на генетическую связь этой «передовой» идеологии с тогда еще только набиравшим силу социализмом. Специальные работы, анализу либеральных корней социалистических учений и революционной практики, посвятил русский политический философ и религиозный мыслитель Л. А. Тихомиров.
В одной из них с недвусмысленным названием «Начала и концы. Либералы и террористы» он показывает, что именно либеральные писатели и деятели создают духовные предпосылки для появления революционного террора. «Терроризм, – чётко формулирует Тихомиров, – это не доктрина, а тактика» и, соответственно, необходимо «задаться вопросом», – «как могла появиться такая тактика, какие для этого требовались нравственные понятия»162. Сам Тихомиров дает такой ответ на этот вопрос: «Революционные крайности вытекают из общего миросозерцания… наши, «передовые», создают революционеров не своими ничтожными либеральными программами, а пропагандой своего общего миросозерцания»163.
Генетическую, «родственную» связь социалистического революционаризма с либеральным реформизмом Л. А. Тихомиров, в образной форме, раскрывает в работе «Демократия либеральная и социальная». Отмечая, что сторонники либеральных и социалистических идей, как правило, считают их принципиально различающимися, он пишет: «До известных пределов они правы. Лягушка очень отлична от головастика. Но, тем не менее, – это все-таки дети одной матери, это различные фазы одной и той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демократизма, социализм, немного раньше, или немного позже, должен был явиться на свет»164.
В завершение наших «генеалогическо-идеологических» разысканий скажем несколько слов о двух концептах, весьма распространенных в современном научно-философском и общественно-политическом дискурсах: о «христианском гуманизме» и «христианском социализме». О первом много говорят и много заботятся либерально мыслящие писатели и деятели. Второй, пропагандируется значительной частью социалистов, особенно, в периоды падения популярности социалистической идеологии. Что касается «христианского гуманизма», то сколь угодно частое употребление этого словосочетания не способно наполнить его смыслом, превратить, выражаясь языком Гегеля, в понятие. Оно, все равно, останется неразумным и недействительным, потому что утверждение человека в качестве высшей ценности, «человекоразмерность» гуманизма, в принципе, не сочетается с христианской верой. Гуманизм и проповедуемая им гуманность – это отнюдь не синоним человеколюбия вообще, и уж, во всяком случае, в христианском его понимании165. Христианство не нуждается в заемных «терминах», оно всегда находит свои слова, и учило милосердию за полторы тысячи лет до появления «гуманизма», этой идеологии, не столько даже «человеколюбия», сколько «человекобожия», своего рода, «воинствующего индивидуализма». Идеологии, возникшей в качестве «реабилитирующей» телесность и чувственность гуманистической антитезы христианской морали, и, в своем развитии, едва ли не превратившейся в одну из форм идолопоклонства, когда человек, отказываясь от Бога, замещает пустоту святого места тем, что делает идола из самого себя и называет это «гуманностью и свободой».
«Христианский социализм» – тоже лукавое словосочетание, искусственно сконструированное, недействительное понятие, еще один оксюморон. Многие приверженцы социалистической идеологии считают возможным усматривать существенное сходство «основ христианской морали» и «морального кодекса» строителей «социализма-коммунизма». И одним из главных аргументов является апелляция к равенству, – ведь «перед Богом все равны», а, значит, какая же «частная собственность»? А с её отменой исчезнут неравенство и эксплуатация, изменятся, станут братскими отношения между людьми и общество приблизиться к идеалу христианской общины. Подобная «социалистическая логика», однако, игнорирует главное – Бога, именно и только перед которым «все равны». Всеобщее равенство на основе социалистического учения, потому и оборачивается, в действительности, «всеобщей» деградацией, а то и трагедией, что его глашатаи не боги. «Социальное равенство» и «равенство перед Богом» – это не просто не одно и то же, это столь же различные сущности, как «град Земной» и «град Божий». Христианское учение, вопреки расхожему заблуждению, не говорит не только о необходимости, но даже о желательности установления равенства здесь, в этом земном мире. Напротив, «социальное равенство» противоположно установленному освященному Богом иерархическому порядку Вселенной. И Отцы Церкви говорили об этом со всей определенностью. Августин в «Граде Божьем» писал: «Итак, мир тела есть упорядоченное расположение частей. Мир души разумной – упорядоченное согласие суждений и действий. Мир человека смертного и Бога – упорядоченное в вере под вечным Законом повиновение. Мир государства – упорядоченное относительно управления и повиновения согласие граждан. Мир всего – спокойствие порядка. Порядок – есть расположение равных и неравных вещей, дающий каждой её место»166. Иными словами, по Августину, равенство, как таковое, противоречит порядку, нарушает его, и, тем самым, разрушает мир, – «спокойствие порядка».
Приведем суждение еще одного из величайших представителей патристики св. Григория Богослова из «Слова о соблюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге» содержащего, можно сказать, настоящий гимн христиански понимаемому порядку: «Всё устроялось по порядку… Для того считается одно первым, другое вторым, иное третьим, и так далее, чтобы в тварях был тотчас введен порядок. Итак порядок устроил вселенную, порядок держит и земное и небесное… Иная слава Солнцу, иная слава Луне и иная звездам; и звезда от звезды разниться в славе (1 Кор. 15, 41). Порядок отличил нас от бессловесных, соорудил города, дал законы, почтил добродетель, наказал порок, изобрел искусство, сочетал супружества… Порядок есть матерь и ограждение существующего. Порядок и в церквах распределил, чтоб одни были пасомые, а другие – Пастыри, одни начальствовали, а другие были подначальными… И хотя Дух один, однако же дарования не равны; потому что не равны приёмники Духа»167.
Приведенные цитаты Отцов Церкви весьма значительны по объему, но мы сознательно пошли на это, чтобы, во-первых, с достаточной полнотой и ясностью показать на «аутентичных» текстах действительное отношение христианского учения к социальному равенству, которое, в сущности своей, есть не что иное, как именно разновидность социального беспорядка и, во-вторых, соответственно, показать принципиальную невозможность «христианского социализма». Более того, надо сказать, что, по большому счету, этот идеологический конструкт, объективно, вне зависимости от субъективно возможных благих намерений своих отдельных адептов, имеет анти-христианскую направленность. В этой связи, показательно замечание К. Доусона по схожему поводу, – о действительном отношении к христианству еще одного «околохристианского» идеологического конструкта, – модной в первой половине ХХ века «диалектической теологии»: «Сегодня, естественная теология жестоко подавляется соединенными усилиями диалектической теологии и диалектического материализма»168. Эта констатация христианского мыслителя в сочетании с вышесказанным, думается, позволяет сделать общий вывод о том, что пропаганда «христианского гуманизма», «христианского социализма», «диалектической теологии» и других аналогичных продуктов либерально-социалистической мысли имеет такое же отношение к христианскому вероучению как строительство Рая на Земле к Царству Божьему.
Завершая историко-философский анализ проблемы взаимосвязи идеологии и государственности, и соответствующий краткий экскурс в генеалогию идеологий, мы не будем выносить «окончательного решения» об общей принципиально-теоретической и\или практической состоятельности рассмотренных концепций и подходов, тем более что мнения, особенно, «практических политиков» на этот счет, всегда будут различными. Но одно, имеющее непосредственное отношение к нашему рассмотрению, мнение практического политика, тем не менее, приведем. М.Тэтчер, не нуждающаяся в представлении, и не где-нибудь, а в заключительном резюмирующем разделе своего труда «Искусство управления государством» говорит: «Для того чтобы свобода прижилась, необходима критическая масса людей, которые действительно понимают, что это такое. Подобное понимание не может прийти в результате простого чтения книг, лишь обычаи и мировоззрение делают свободу устойчивой… Простого соблюдения закона гражданами свободной страны недостаточно… Свободные люди должны, кроме того, обладать добродетелями, которые делают свободу возможной (подчеркнуто нами – С. Г.)»169. Слова эти, особенно подчеркнутые фразы, являются, как видим, практически буквальным повторением главной мысли Платона, Аристотеля и Гегеля о том, что государство держится на добродетели. И еще одно показательное для нашей темы утверждение. Рассуждая о моральной основе капитализма Тэтчер, отмечает ложность отождествления понятий «справедливый» и «равный» и далее говорит: «При всем уважении к авторам американской Декларации независимости не могу согласиться с тем, что все мужчины (и женщины) созданы равными, хотя бы с точки зрения их характеров способностей и одаренности»170.
Конечно, мнение, даже такое авторитетное как вышеприведенное, остается мнением и, тем не менее, в данном случае, оно, как представляется, по меньшей мере, подтверждает актуальность и практическую применимость платоновского подхода к пониманию оснований государственности. Перейдем теперь от историко-философского рассмотрения к анализу релевантных нашей проблематике данных современной социальной науки.
Глава III. Идеологические принципы и объективные факты: эмпирическая наука об основаниях, способах и формах организации социальной жизни
§1. Основания социальной жизни
Всякий действительно научный и, тем более, философский анализ взаимосвязи идеологии и государственности предполагает, очевидно, определение онтологического статуса идеологии вообще, и, соответственно места и роли идеального как такового в социальной реальности. В этом определении, мы будем исходить из того, что «первичной» и, вообще говоря, единственной эмпирически наблюдаемой социальной реальностью является жизнедеятельность конкретных индивидов. Как пишет К.Х. Момджян: «Социальная реальность, есть не что иное, как процесс совместной жизнедеятельности людей»171 Поскольку эта последняя является именно совместной, она, уже в своей непосредственной данности, не есть некая неупорядоченная, бессвязная, спонтанная активность, а представляет собой, напротив, нечто упорядоченное и организованное, причем, именно, системно-организованное. Собственно, всякая организация, в соответствии с понятием, является системно-организованной. Системность и организованность – взаимополагающие, априорно-аналитически взаимовыводимые, качества. Жизнедеятельность всякого конкретного индивида, как и любое явление вообще, обладает определенной формой и содержанием. Это последнее, внешним образом, представлено как последовательный ряд, порядок действий, задаваемый некоторой целью. Действия индивида, сами по себе, есть поведенческие акты, проявление психической и физической активности, и в своей конкретной определенности, могут представлять интерес для физиологии, психологии или иной конкретной науки. Научно-философский же анализ жизнедеятельности индивида предполагает, прежде всего, рассмотрение ее формы, ибо именно форма связывает, организует элементы содержания (в нашем случае, конкретные частные действия индивида) в единое целое. Непосредственно явленной формой жизнедеятельности индивида является общество. Так как содержание вообще не существует вне определенной формы, общество оказывается столь же необходимым условием жизнедеятельности индивида (= его социальной деятельности) как и его собственная психическая и физическая активность. Иными словами, индивид-актор, и общество могут существовать только в единстве, и только в единстве составляют достаточное основание социальной реальности.
Поскольку общество есть форма, оно отлично от совокупности индивидов и «не дано в ощущении», то есть представляет собой нечто сверхчувственное, идеальное, а, следовательно, социальная реальность имеет также и идеальное основание. Социальная реальность, очевидно, не сводится к совокупности физических актов осуществляемых индивидами, и, таким образом, не есть только наблюдаемая, вещественная «материальная» реальность. Она представляет собой единство вещественных, чувственно-данных и невещественных, сверхчувственных, идеальных компонентов существующих в неразрывной взаимосвязи. Причём совокупность её физических, вещественных компонентов, сама по себе, строго говоря, не относится к собственно социальной реальности, а становится таковой, только в результате наделения этих компонентов значениями. Иными словами, собственно социальное – это идеальное. Хорошим примером в этом отношении является язык, подлинный дом социального бытия, необходимое условие жизнедеятельности индивидов, становления социального, человеческого в человеке. С «материальной» стороны, в физическом отношении, он представляет собой совокупность звуков или линий-начертаний (слышимого или видимого). Но языком его делает не звучание, а осмысление. И непосредственно, он дан и как «тело» мысли, то есть совокупность знаков, и как хранитель и источник Смысла. Да и сам человек, для себя, есть непосредственно осознаваемое наличное тождество тела и души, материального и идеального. И закономерно, что реальными факторами человеческой деятельности служат не только так называемые «материальные», но и духовные потребности.172 Поэтому, так как, идеология вообще, в самом широком смысле этого слова, есть собственно социальная форма существования идеального, можно утверждать, что она, – неотъемлемая составляющая социальной реальности.
Будучи социальной реальностью, общество как форма жизнедеятельности индивида и целостное явление, в свою очередь, имеет форму или, что то же, – определенное устройство. Поскольку последнее является социально-политическим, оно, во всяком случае, в своем развитом виде, оказывается государственным устройством. Следовательно, государство вообще есть форма общества, способ его организации. Соответственно, государственность как таковая есть определенное качество социально-политической организации общества. Таково наиболее абстрактное определение государства и государственности.



