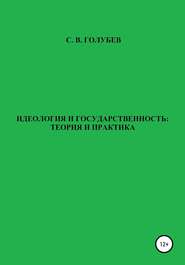 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Человек «сам по себе» не может быть свободен, даже если контролирует условия собственного существования. Понимание свободы как способности «контроля» может быть верным, только если не упускает из виду тот факт, что индивид сам по себе не в состоянии «контролировать необходимые условия существования», ни в отношении контроля над территорией, ни в отношении чисто физической самозащиты и защиты своей семьи. Эти две функции всегда принадлежали сообществу, точнее, власти. И поэтому тоже, – свобода суть не «естественное», а социальное состояние, не качество индивида самого по себе, а качество, характеристика социальной среды, социального окружения в его восприятии индивидом. Напомним здесь, кстати, что вообще любое свойство последнего не принадлежит ему «самому по себе», не является исключительной принадлежностью индивидуального «я», а существует благодаря также и другим, окружающим. В предельно абстрактной формулировке Гегеля, эта мысль выражена следующим образом: «В качестве определенного бытия, наличное бытие существенно есть бытие для другого»443. То же по сути, и почти теми же словами, говорит и Хайдеггер: «Человек, по природе своего бытия, всегда уже пребывает в со-бытии с другими», и далее: «быть человеком и означает, со-бытие с другим»444.
Действительная истина и «чистого», и «практического» разума, состоит, таким образом, в том, что быть свободным, как и вообще, быть, можно только вместе с другими. И язык, также свидетельствует об этом. «Благодаря своей принадлежности к группе людей, объединенных общностью рождения или дружескими отношениями, индивид, – пишет Э. Бенвенист, – является не только свободным, но и самим собой»445. Формулируя это принципиальное положение, Бенвенист приводит ряд терминов, которые «позволяют усматривать в исходной форме «-swe» наименование социальной общности, каждый член которой проявляет свою «самость» лишь находясь «среди своих»446.
Добавим к этому ещё напоминание от «чистого разума»: не только проявлять свою «самость», но и обрести её, – «самость» ведь не даётся в готовом виде,– в принципе, возможно лишь, находясь среди «своих». О том же говорит и экзистенциальное «измерение» свободы, её ощущение. Поскольку речь идёт об ощущении свободы, а ощущение по определению связано с внешним по отношению к «я», и язык неслучайно подсказывает нам этот фразеологизм, «свобода», опять же, оказывается характеристикой восприятия внешней среды, моего отношения к моему социальному окружению. Это вполне определенно фиксируется и в современном словоупотреблении. Человек «у себя», когда он в «кругу друзей», в «семейном кругу», в «кругу родных и близких», там он чувствует себя свободно а в незнакомой обстановке, среди чужих, человек ведет себя скованно, ощущает себя не в своей тарелке. В чужом краю (ср. на краю, ощущение «по самому, по краю» В. Высоцкий), утрачивается чувство безопасности, даваемое своим кругом.
Это ощущение, вообще, дается наличием дома, – быть свободным, значит, быть у себя дома, почему и говорят: «чувствуйте себя свободно как дома». А дом есть огороженное и упорядоченное, и потому безопасное и привычное, узнаваемое место, где человек живет с близкими ему людьми, в кругу своих. Показателен, в этой связи, современный феномен роста популярности разного рода сект. Что такое секта для её адептов экзистенциально? Это, именно, замкнутый, отгороженный от других-чужих, круг «близких по духу» людей. Именно его надеются найти в секте те, кто ощущают себя одинокими, чужими, а, значит, и несвободными в современном=либеральном=массовом=атомизированном обществе. Эта надежда и лежит в основании «религиозных исканий», что подтверждает истину сказанного: «Вера сделает вас свободными», – то есть именно даст возможность обрести свой круг, а значит почувствовать себя свободно и, главное, везде быть у себя, с Богом, говоря языком религии.
Понятной становится, соответственно, и борьба государства, в том числе, конечно, и либерального, с сектами, в которых вера не является только «частным делом», а становится маркером разделяющим «своих и чужих» и, которые, поэтому, объявляются «тоталитарными». Государство, которое само есть форма социально-политической общности и определенная (правовая) форма свободы, не может допустить существования «внутри себя» других, альтернативных ему, не регламентируемых им форм. Поэтому борьба с «сектантами», «еретиками» всегда и везде была не только религиозной, но и политической борьбой. Этим объясняется, например, безусловное требование Синедриона: отпустить «закоренелого» убийцу–Варраву и казнить того, кого его члены считали просто проповедником, «еретиком». Разбойник, и даже убийца, – лишь частное лицо и приносит лишь частный вред. Проповедник же, говоря словами Гегеля, выступает от имени «Всеобщего» и, тем самым, покушается на то, что уже установлено в качестве такового официальной властью. Соответственно и наказания за преступления «идеологического характера», «экстремизм» в современных светских государствах, заменяющих религию идеологией, типологически схожи с наказанием за богохульство, преступлениями против религии в традиционных обществах. «Экстремист», занимающий место еретика, не просто преступник – это экзистенциальный враг, изгой, исключаемый из общего «социально-политического» круга.
Что же касается «просто» преступников, уголовников-рецидивистов, современных последователей Варравы, то в контексте рассматриваемой проблематики, интересна популярная в среде этого «контингента» фраза «тюрьма – мне дом родной». Это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение, отвлекаясь от его напускной бравады или слезливости, представляет собой не что иное, как указание на эмпирический, «экзистенциальный» факт, который доказывается тем, что рецидивистов не особенно пугает «лишение свободы». Попадая в тюрьму, рецидивист «возвращается на круги своя», оказывается «у себя», в кругу своих, почему и чувствует себя там «как дома». Заключение равносильно лишению свободы лишь тогда, когда означает невозможность быть в своем кругу. Экзистенциально, несвобода и есть такая невозможность, ибо каждый стремится жить среди своих (= стремится к свободе). Поэтому уголовное наказание для уголовника есть нечто принципиально иное, чем для человека впервые попадающего в «места лишения свободы», за экономические преступления, например. Здесь можно вспомнить и остракизм, который в традиционном обществе и был практически, разновидностью лишения свободы, обрекая изгнанного, на жизнь вне своего круга, а, значит, и на ту или иную форму зависимости от людей не своего круга. Анализ того, что в действительности воспринимается как лишение свободы, дает, таким образом, экзистенциальное свидетельство того, что есть свобода.
Итак, язык или, если угодно, лингво-этимологический анализ, анализ религиозно-мифологических представлений, философское рассмотрение, и, конечно, пресловутая практика, считающаяся многими «критерием истины», повседневная жизнь человека, – всё это говорит о понимании-определении свободы, как возможности быть (жить) в своём кругу, быть включенным в воспринимаемую в качестве своей социальную группу, общность.
Не так думает либерализм. Для него свобода принципиально начинается с «я», принадлежит «я», является его качеством. Он утверждает, что «все люди по природе свободны». Индивид, этот социальный атом, как таковой, обладает свободой. Общество же, в силу разного рода (но всегда прискорбных) обстоятельств, может лишь ограничивать (что для либерализма = уменьшать) и всегда ограничивает индивидуальную свободу. Таким образом, с помощью либерализма, свободный от природы индивид, – это высшая, из всех «мыслимых», ценность и цель (если таковая вообще есть) общественного развития, находит в обществе своего врага. Другие ограничивают его свободу, покушаются на неё, а власть, как таковая, прямо направлена на её подавление. Таковы основополагающие догмы либерального учения.
Но либерализм не только учит свободе, он ещё и борется за неё. И в современном обществе его борьба переходит, как кажется, к завершающему этапу. Сегодня он борется (и небезуспешно) уже за то, чтобы защитить (средствами ювенальной юстиции) права и свободы малолетних детей от покушений со стороны их родителей. Это последнее достижение либерализма. Кто-то может быть назовёт подобное «идиотизмом», но человечество и его либеральные представители не обязаны ведь прислушиваться к мнению частных лиц. Как бы там ни было, «победное шествие» либерализма хотя и продолжается, но, очевидно, не дошло пока до конца истории. И обращение к здравому (общему, а не либеральному) смыслу, и, конечно, к исходному, действительному смыслу слов, наверное, ещё имеет смысл. А значит, поскольку выяснены происхождение и сущность понятия «свобода», становится необходимым исправление имён.
Таким образом, поскольку фундаментальным принципом, если угодно, знаменем-именем либерализма является «свобода личности», «права и свободы» человека именно как частного лица, – и, именно на человеке, как частном лице, либерализм строит своё понимание морали, права и государства, когда альфой и омегой, безусловной ценностью и приоритетом морали оказывается «личность»; она же становится источником, мерилом и целью права, и ей же, именно частному лицу, должно служить государство; – постольку, исправляя имена, необходимо назвать идеологию либерализма её действительным именем, – идеологией идиотизма (от греч. -idiotes– частное лицо). Либерализм, краеугольный камень которого, – приоритет частного лица, по существу своему, является идиотизмом. Это определение, как всякое подлинное имя, в отличие от лукавого самоназвания, многое объясняет. И, в особенности, разрушительный характер либеральной идеологии и либеральной практики для свободы человека.
Поскольку свобода даётся человеку, обретается им лишь в своем социальном кругу, её необходимыми, естественными формами являются: семья, религиозные, этнические и профессиональные общности. И, конечно, государство, эта завершённая социальная форма, самодостаточный социальный круг, круг кругов, закономерно развивающийся в соответствии со стадиями общественного развития. Посмотрим, как к этим кругам-формам относится либерализм.
Важнейшей, фундаментальной из них является семья – форма воспроизводства человека. Либерализм разрушает семью. Эта констатация является, собственно, ничем иным, как результатом эмпирического обобщения. Поздние браки, частые разводы, низкая и постоянно снижающаяся рождаемость, появление и рост числа бездетных, и даже однополых семей, – всё это хорошо известные факты, характеризующие положение семьи в современном либеральном обществе. В обществах, сохранивших традиционную культуру, ситуация, что тоже хорошо известно, совсем другая. Свободный брак, либерализация, «раскрепощение» семейных отношений, пропаганда «сексуальной революции», свободной любви, «философское» обоснование и правовое обеспечение этих ценностей, над чем немало потрудился либерализм, – всё это закономерным образом привело к вышеотмеченным «достижениям» «нетрадиционной семьи», или, если называть вещи своими именами, к депопуляции.
Заметим, что то, что в либерализме называется «свободным браком», исправляя имена, приходится определить как «сожительство идиотов». Брак, в соответствии с понятием, не может быть союзом частных лиц. В действительном браке, заключившие его лица, становятся «супругами», то есть, совместно впряженными, находящимися в одной упряжке, тянущими «одну лямку», если угодно, и, живущие, поэтому, не частной, а общей жизнью, составляющие единство, целое. Такова экзистенциальная истина практической жизни. То же, словами Гегеля, говорит и философия: «Семья имеет своим определением своё чувствующее себя единство, любовь, так что умонастроение внутри семьи состоит в обладании самосознанием своей индивидуальности в этом единстве, как в себе и для себя сущей существенности, чтобы являть себя в ней не как лицо, для себя (подчёркнуто нами– С.Г.), а как член этого единства»447. Гегель, как видим, утверждает, что даже индивидуальность личности (самосознание), поскольку она есть член семьи, определяется этим состоянием. То есть, в семье нет абстрактного «частного лица» со своей абстрактной «индивидуальностью», а есть индивидуальность мужа, отца, главы семейства и т.п. Но свободолюбие либерализма не смутить ни опытом жизни, ни философской истиной. Он, вообще, говорит на другом языке, и о другом. Либерализм, не о любви, – о сексе. Он, – «child free», его словарь,– это: «партнеры», «личное пространство», «совместное проживание», «ведение хозяйства», «досуг».
Помимо «свободного брака» в арсенале либерализма есть и другие средства. Важнейшие среди них, это – феминизм, борьба против «насилия в семье» и «ювенальная юстиция». Здесь не место сколько-нибудь подробно говорить об этих явлениях (соответствующие факты, опять же, хорошо известны). Скажем лишь несколько слов об их сути. Какова цель феминизма с точки зрения либерализма? Ответ известен, – это эмансипация, освобождение женщин. Спрашивается, от кого, от чего? Ответ, очевидно, может быть только один, – от мужчин и от семейных обязанностей. Ибо кто, если не мужчина может покушаться на свободу женщины, закрепощать её? Может быть, либерализм освобождает женщину от необходимости работать на производстве, «продавать свою рабочую силу» на «рынке труда»? Так нет, даже напротив, освободив её от «семейного рабства», он, как раз и вывел её на этот рынок, где теперь эмансипированная, свободная женщина может, совершенно свободно, оказывать разного рода услуги, в том числе,– «интимного характера». Либерализм же заботится лишь о том, чтобы обеспечить правовую регламентацию этой её деятельности. И почему-то не замечает того, что «эмансипировав» женщину от необходимости «вытирать сопли» своим детям и убирать в своём доме, он приставил её вытирать их чужим, и направил убирать «места общего пользования». Таким образом, действительным препятствием для эмансипации оказывается семья. А феминизм, по сути своей, есть не что иное, как борьба полов, – актуальная «реинкарнация» духа «классовой борьбы». Что касается благих намерений, бороться против «насилия в семье» и за «защиту прав ребенка» средствами ювенальной юстиции, то, по существу своему, на деле, они означают попытку поставить под государственный контроль семью, как сферу частной жизни человека. Иными словами, дело идёт о разрушении семьи, как частного социального круга, связанного не публичными, а близкородственными отношениями. Семьи, которая как раз и представляет собой первичный, естественный для каждого человека свой круг.
Когда сегодня женщину призывают сообщать по «телефону доверия» о «насилии в семье», а малолетних детей учат рассказывать о неправильных, с их «точки зрения», действиях родителей по отношению к ним, что это значит, если не стремление вывести родственные отношения в публичную сферу, дать возможность государству вмешиваться в них? Здесь возникает ощущение «дежавю», вспоминается пионер-герой Павлик Морозов. Смысл его героизации был, очевидно, не только, а может быть и не столько в «борьбе с кулачеством», сколько в пропаганде доносительства, доносительства на отца. Сюжет воистину библейского размаха. Но тогда «кавалерийская атака» социализма на «бастион» семьи была отбита, точнее, подавлена логикой возвращения к более-менее нормальному (не революционному) обустройству общества. Сегодня либерализм ведет дело по-другому, уже не наскоком, а по всем правилам осады, берёт «измором», почти «бескровно». В ход идут и обиженные жёны, и избалованные дети и, конечно, сексуальное «воспитание-просвещение». Активно привлекаются также голливудские и не только «мастера культуры», потчуемые умопомрачительными гонорарами и нобелевскими премиями. И, кажется, что семья, какой она была в течение тысяч лет, та семья, которая и была тем, что называлось «мой дом – моя крепость», была формой оградой-ободом свободы каждого, уходит в прошлое, становится пережитком.
Что касается религиозных общностей, то либерализм, называющий себя также «Просвещением», объявил религию «опиумом для народа», противопоставил ей свободомыслие и развернул бескомпромиссную борьбу за освобождение «обманутых», «тёмных» «простых людей» от «религиозного дурмана». Борьба эта началась с отстаивания права каждого верующего именно в «личном качестве» (как частного лица) на самостоятельное, свободное понимание-толкование Библии. На сегодняшний день, торжество антирелигиозной кампании либерализма, – почти свершившийся факт. Религия стала частным делом, её «дурман» в современном обществе практически рассеялся. Борьба с ней, тем не менее, продолжается. В контексте нашего рассмотрения, существенный интерес представляет анализ современной, инновационно-либеральной формы борьбы с религией, – экуменизма. Экуменизм, не вдаваясь в религиозные тонкости, – это стремление объединить все религии, сконструировать общую и единую для всего человечества веру. Таким образом, хотят, как заявляется, снимая (постепенно) различия религиозных общностей, достичь некоего «духовного» единства, когда «человечество» вознесёт «совместную молитву» некоему «Высшему существу». Но, говоря о подобном «единстве», расписывая «прелести» этого новейшего варианта Вавилонской башни либеральное прекраснодушие забывает о том, что единство, как таковое, требует, в качестве необходимого момента своей сущности, различия как такового. Снятие, устранение различий, – есть смешение и не может привести к единству, тем более, духовному, а только к внешнему соединению в массу, которая, по определению, и есть нечто гомогенное, лишенное различий.
И дело не только в том, что религиозное и либеральное сознание говорят на разных языках. Для первого, по словам кардинала Ньюмена, – нет середины между Истиной и ложью, для последнего, – нет ни истины, ни лжи, всё – «середина». Это даже стало чем-то вроде либерального кредо, истина, – «как известно», «всегда» «лежит посередине». Важно подчеркнуть и другое: «человечество», о котором и от имени которого так любит поговорить либерализм, объединяет всех вообще и, именно поэтому, в принципе, не может быть своим кругом ни для одного конкретного человека. Принадлежность к человечеству, как таковая, есть просто абстракция человеческого бытия как такового. Она ничего не говорит о «где» и «как» этого бытия и не может, поэтому, ни в малейшей степени, дать ощущение свободы, остаётся по ту сторону её экзистенции. То же касается и «общечеловеческой религии». Движение к ней, экуменизм, означает, на практике, разрушение различных религиозных общностей и, тем самым, лишение человека возможности обрести определенный свой круг в какой-либо из них, то есть, покушение на человеческую свободу, размывание одной из важнейших её форм.
Та же схема применяется и в отношении к этническим общностям, прежде всего, к нациям. В современную эпоху, нации всё больше отступают перед «человечеством», уступая ему своё «место под солнцем». Либеральная философия объявила их «воображаемыми сообществами», сугубо политическими, произвольными образованиями. И сегодня, в свободном обществе, каждый человек, вслед за «правом определять свою религиозную принадлежность», получает также «право определять свою национальную принадлежность» или, соответственно, «не определять». Либерализм, тем не менее, продолжает свою борьбу с нациями, главным образом, посредством «национализма», – понятия-ярлыка, неопределенное содержание которого свободно (и очень удобно) сочетается с вполне определенным негативным ценностным значением.
Что касается профессиональных общностей, то те же «профсоюзы», например, сегодня выглядят уже архаикой, чем-то из двадцатого, если не из девятнадцатого века. В двадцать первом веке, либерализм порождает фрилансеров, новый «прогрессивный класс», и, все более настоятельно рекомендует «long-life learning», постоянное «переобучение», «овладение новыми специальностями». Пропагандируется получение нескольких «высших образований», владение несколькими «профессиями», что объективно ведет к периодической смене «мест работы» (а, значит, и «трудовых коллективов»), да и «жительства». В этой связи показателен, в частности, «Болонский процесс», в рамках которого студенты стимулируются к обучению не в одном вузе, а в двух-трех. Как это влияет на качество образования – разговор отдельный. Здесь отметим, то очевидное обстоятельство, что смена студентами вузов в процессе обучения препятствует формированию такой значимой ещё в недавние времена общности как однокурсники (одногруппники). По сути, для современных выпускников европейских вузов, теряет смысл само понятие «альма матер».
Соответственно, современному работнику не до профессиональных союзов-общностей. Более того, человек в либеральном обществе зачастую самому себе не может (да и не хочет) ответить на вопрос: кто я по профессии (обязательное прежде «What are you?»). У него не сформировано (размыто) соответствующее идентификационное поле. Отсутствие определенной профессии, заметим, характеризует индивида не только как субъекта «экономических отношений». По большому счёту это не только профессиональная, но также и экзистенциальная неопределённость. Как отмечает Гегель: «Говоря, что человек должен быть чем-нибудь, мы под этим разумеем, что он должен принадлежать к определённому сословию, ибо это «что-нибудь» означает, что он в этом случае есть нечто субстанциальное. Человек вне сословия – просто частное лицо и не пребывает в действительной всеобщности»448. То есть, не включён должным образом в общество, а значит, не является вполне социальным существом. Так что «перманентная» смена мест работы, профессий – это не просто так, это разрушает, не даёт сформироваться человеку. Неслучайно ведь и действенная, «работающая» мораль (особенно «трудовая этика), всегда опирается на профессионально-сословную мотивацию, что можно видеть даже сегодня, – у военных, врачей, то есть у профессий сохраняющих сословные черты. В советские времена, заботясь о «трудовом воспитании», говорили, как известно, и о рабочей чести, «рабочих династиях».
Подвергая эрозии, разлагая религиозные, национальные, сословно-профессиональные и даже семейно-родственные общности-круги человеческого со-бытия, либерализм деструктурирует социум, разобщает общество, превращая его в массу, в пределе, в глобальную вообщечеловеческую массу. Это, не знающее границ, лишенное структуры, аморфное социальное «новообразование», простое «социальное пространство», вмещающее многомиллиардный рой бесцельно блуждающих «социальных атомов», представляет собой благоприятную питательную среду для тоталитаризма, как политического режима, ставящего под контроль все сферы жизнедеятельности человека, не оставляющего места его свободе.
Именно и только бессвязную, бесструктурную социальную массу можно легко «форматировать», перестраивать по произволу «сверху». Только от такой массы можно безболезненно отделять «частицы». Индивида, соответственно, надо эмансипировать от социальных связей, он должен быть «сам по себе», тогда каждый останется «один на один» с властью, что и является важнейшей социально-структурной и социально-психологической предпосылкой тоталитаризма. На это принципиальное обстоятельство обращает внимание такой авторитетный исследователь, как Х. Арендт: «Тоталитарное господство как форма правления… опирается на одиночество, на опыт тотального отчуждения от мира»449. Связь тоталитаризма с разобщением людей, разрушением традиционных общностей отмечается и в «Новой философской энциклопедии»: «Исторические причины возникновения тоталитаризма связаны с разрушением традиционных общностей, эмансипацией и социальной активизацией массового человека450.
Говоря о роли государства в современном мире, отметим, что её изменение, в общем, соответствует известному либеральному принципу: «чем меньше государства – тем лучше». Подчинённость государства «интересам» человека и гражданина, либерализм дополняет сегодня подчиненностью государственного суверенитета «нормам международного права». Государство, таким образом, отступает перед международными организациями и наднациональными органами власти, передавая им всё большую часть своих полномочий. Тем самым, вместе с «растворяющимися» в «человечестве» нациями, в различных международных «структурах», «распыляется» национальное государство. Так, вслед за единой (то есть, собственно, одной), общечеловеческой религией, для единого человечества или, если угодно, глобального массового общества (закономерного результата разжигаемого либерализмом «восстания масс»), строится и единое, общечеловеческое глобальное государство. Государство, которому не понадобится «железный занавес». Не понадобится, потому что снятие-устранение национально-государственных границ, о котором так много заботится либерализм, объективно есть необходимый («последний и решительный») шаг на пути к торжеству «тоталитаризма», который в соответствии с понятием, в своем завершенном виде, может быть только всеобщим, глобальным и, соответственно, может быть установлен только в общемировом масштабе.



