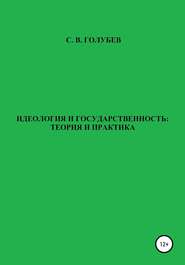 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
На этот счет, как известно, много и красочно писали французские постмодернисты. Так, Ж. Бодрийяр отмечая, что современная политика – это сфера «симуляции, а не репрезентации», пишет: «в действительности, политическое уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем»413. Поскольку те, кто принимают решения, как правило, остаются «за ширмой», сфера политики в нетрадиционном обществе оказывается сферой безответственности. Виноватым, в конечном счете, всегда остается «народ». Ведь это он избирает «правителей». А с другой стороны, у «народа» всегда есть возможность «исправить свою ошибку», – на следующих выборах он может проголосовать за «более достойного кандидата». Безответственность современных политических деятелей, таким образом, получает принципиальную легитимацию, и даже моральное обоснование. Ведь каждый из них является только проводником воли народа и не имеет права принимать решения, противоречащие ей, то есть, вообще говоря, и не должен брать ответственность на себя. Внешним образом, стремление нетрадиционных политиков представить себя исключительно в качестве «проводников» проявляется в характерном для них обращении к электорату: «я один из вас», в «демократическом стиле» поведения и т.п. Показательно и то, что среди либеральных деятелей практически нет ярких политических лидеров, вообще крупных личностей. Впрочем, эта безликость, иногда даже какая-то нарочито-показушная серость, как раз и предопределена тем, что сильная личность, по определению, отличается способностью и стремлением брать на себя ответственность.
Так как публичная либеральная политика фактически деперсонализирована, это облегчает для нее самопредставление в качестве не того, что она есть, а как действительного осуществления «воли народа» (которая деперсонализирована, по определению). Это, в свою очередь, дает возможность представлять принимаемые политические решения, как «объективно закономерные», «неизбежные в данной ситуации», «не имеющие разумной альтернативы»414. Иными словами, политические решения, не имея официального авторства, превращаются в безличные и на этом основании подаются «народу» в качестве не политических, а объективных, «требуемых самой жизнью», «необходимостью экономического развития» (в этом случае политическое решение предстает в «одежде» рекомендаций экономической науки) и т.п. В дальнейшей перспективе эта, приравненная к объективности, безличность принимаемых нетрадиционной элитой политических решений, переносится на порождаемые и стимулируемые этими решениями политические процессы. Последние также оказываются не политическими, а объективными, закономерными, необходимым следствием «экономического развития», «технологической революции». Самый известный пример такой «объективации» – «процесс глобализации», объявленный либерализмом (и социальной наукой) закономерным естественным процессом, – «железной необходимостью», столь же неизбежной, как восход Солнца или, по меньшей мере, обещанная ранее «Научным коммунизмом» «победа Коммунизма».
Не входя в сколько-нибудь подробный анализ феномена глобализации, отметим лишь, что, она, что называется «по определению» отрицает любые цивилизационные альтернативы и, по существу своему, очень похожа на то, что сто лет назад называлось «Мировой революцией». Методы, конечно, разные, но заявленные цели-предполагаемые результаты, принципиально те же. Это и образование «Мирового рынка», «законы которого диктуют» и т.п. и формирование наднациональных органов власти – институтов глобального управления, закономерно сочетающееся с все более полным ограничением государственного суверенитета и, конечно, «окончательное торжество» принципов свободы и равенства. Всё это, как собственно и сама постановка вопроса, о «победе во всемирном масштабе», явным образом, на практике демонстрирует сущностное совпадение либеральной и социалистической идеологий. Фактические обстоятельства и конкретно-политические механизмы, раскрывающие и обеспечивающие это совпадение, систематически описаны и проанализированы, в частности, И. Валлерстайном в работе «После либерализма». Описывая ход истории в 20 веке, он показывает, что США и СССР были встроены в единую миро-систему, в которой последний играл подчиненную роль. Даже в случае с Китаем, казалось бы, одном из стратегических успехов «коммунистического антиимпериалистического» движения: «реальная озабоченность США была связана не с тем, что Китай теперь станет марионеткой СССР, а с тем, что он ею не станет»415. О коммунистических и «национально-освободительных» движениях Валлерстайн пишет, что хотя все они «противостояли гегемонии США и существующей миро-системе, но, тем не менее, действовали в базовых рамках просвещенческого мировоззрения 18 века. Они были против системы, но принадлежали ей. Вот почему, в конечном счете, приходя к власти, они все могли без особых трудностей инкорпорироваться в продолжавшие свое развитие структуры системы»416. Подчеркивая идеологическую близость США и СССР, их интегрированность в единую миро-систему, американский исследователь говорит также о: «советском суб-империализме и его сговоре с США»417.
Этот политический «сговор» «капитализма» с «социализмом» и показывает на деле принципиальное единство двух идеологий, точнее двух разновидностей одной идеологии. То, что «Социализм» и «Капитализм» – именно разновидности отмечал, в частности, А. Ф. Лосев. Не имея в своем распоряжении фактов известных И. Валлерстайну, он в период, когда о «мирном сосуществовании» «двух идеологий» не могло быть и речи, писал о «буржуазном, по природе, социализме»418. Чётко и вместе с тем образно, тезис о принципиальном единстве либералов и левых формулирует К. Шмитт: «У крупного предпринимателя нет иного идеала, кроме того, что есть и у Ленина, а именно «электрификация всей земли». Спор между ними ведётся только о правильном методе электрификации». Американские финансисты и русские большевики соединяются в борьбе за экономическое мышление»419. Многочисленные примеры союзов (не будем говорить о «сговорах») либералов и социалистов предоставляет и политическая практика наших дней. Назовем только самые красноречивые: очередная «большая коалиция» в Германии, когда «христианские демократы» объединяются с «социальными», с целью не допустить альтернативу; фактическое превращение «вигов» в придаток лейбористской партии в Англии; призыв бывшего президента республиканца Дж. Буша-мл. голосовать на выборах 2016 года за кандидата от демократов. Что касается политического класса США, в целом, то приверженность подавляющего большинства его представителей, не только демократов, но и так называемых неоконсерваторов, либеральной идеологии (которую при Обаме было всё труднее отличать от социалистической) достаточно убедительно показана П. Бьюкененом в работе «Правые и не-правые»420.
Подобные примеры можно было бы множить, отмечать еще более красноречивые детали заключения политических союзов. Но дело, конечно, не в деталях. Чтобы не лежало на поверхности, направляющее воздействие всегда будут оказывать основополагающие принципы. А они у либеральной и социалистической идеологий, как было показано нами в ходе философского анализа их концептуально-теоретических оснований, – общие. В этом и заключается фундаментальная причина схожести «Глобализации» с «Мировой революцией». Отличие же внешних форм этих «всемирно-исторических процессов» обусловлено отмеченным выше различием методов, – социалистического «революционного насилия», «большевистских темпов» и либерального постепенного распространения «ароматной заразы».
Поскольку либеральная политика базируется на идеологии, претендующей на выражение «общечеловеческих интересов» и «победу во всемирном масштабе», её реализация объективно создает угрозу тоталитаризма. Последний отнюдь не является спецификой «социалистических обществ». Ещё Х. Арендт показала, что истоки тоталитаризма – в отказе от традиции, разрушении традиционных общностей, приводящем к атомизации общества, «тотальному одиночеству» современного массового человека, «освобождаемого» либерализмом едва ли не от всех типов естественных социальных связей. То, что тоталитаризм – неслучайный феномен 20 века и связан не только с «социализмом», а потенциально присущ современному нетрадиционному обществу как таковому, отмечает и Э. Гидденс. Ссылаясь на еще одного авторитетного исследователя, З. Баумана, он пишет: «тоталитаризм и современность связаны не только случайно, но и внутренне, как, в частности, сделал очевидным Зигмунд Бауман»421. Известный российский автор А. М. Руткевич, характеризуя современную либеральную политику и ее вероятные перспективы также высказывается вполне определенно: «от идеалов Свободы, Равенства, Братства в западном обществе почти ничего не осталось – они превратились в лозунги партийных функционеров, демагогов, манипулирующих массами. Переход к тирании и рабству может произойти в любой момент»422. Мы, со своей стороны, заметим здесь, что «моментальный» переход к тоталитаризму все-таки вряд ли возможен. Да это и не нужно, это не в либеральном духе. «Моментальные (по историческим меркам) переходы», «кавалерийские атаки» – это как раз социалистические методы, направленные, главным образом, на прямое разрушение.
Либеральная политика придерживается, как отмечалось, тактики постепенного реформирования. В силу этого важнейшую роль в её проведении играют средства массовой информации. Именно они служат главным проводником – адекватным агентом постепенного распространения «всюду проникающей заразы» «либерального здравомыслия». Эта их роль обусловлена также тем объективным обстоятельством, что современное общество состоит из массы отдельных индивидов. СМИ же, как таковые, по определению как раз и культивируют эту современность, что делает их, в сущности, либеральными. Либерализм же, в свою очередь, не устает бороться за «свободу прессы». Действительные мотивы этой политической борьбы раскрываются Ж. Бодрийяром в известной работе с характерным названием: «Реквием по масс-медиа». «Телевидение, – пишет он, – куда больше чем всё это (традиционные средства контроля власти над индивидом – С.Г.): это уверенность в том, что люди больше не разговаривают между собой, что они окончательно изолированы»423. Это разобщение и «изоляция» людей, осуществляемая телевидением, сам факт его наличия, согласно Бодрийяру, важнее даже того, что, собственно, показывают на телеэкранах. Он специально обращает внимание на это принципиальное обстоятельство: «в самом предельном случае власть должна была бы предложить каждому гражданину телевизор, не заботясь о программах»424. И сегодня, с распространением Интернета, можно констатировать, что это фактически произошло.
Иными словами, сделан решающий шаг на пути современного человека к тотальному одиночеству. А этот путь, в силу самой логики социального бытия не может не привести к тоталитарной форме организации общественной жизни. Бодрийяр так говорит о тоталитарном характере «современных mass media», куда он включает также систему выборов, референдумы, разного рода «культурные мероприятия»: «они не перестают быть тоталитарными: в некотором роде они реализуют идеал того, что можно было бы назвать “децентрализованным тоталитаризмом”»425. В этом бодрийяровском определении, как представляется, точно выражена сущность либеральной политики, её только методическое отличие от известной социалистической политики «централизованного» тоталитаризма. Так это или нет, – покажет время, и, возможно, достаточно скорое, но уже сегодня, вполне очевидно, что современная либеральная политика, по сути своей, имеет мало общего с подлинной свободой, и создает объективные предпосылки для возникновения невозможного прежде, глобального тоталитаризма.
§2. Либерализм и свобода
Больше всего раздражают те
исследования, которые вскрывают
родословную идей.
Лорд Эктон 426
В современном словоупотреблении, прежде всего, конечно, в общественно-политической лексике слова «либеральный» и «свободный», «свободолюбивый», – едва ли не синонимы. «Либеральное законодательство», «либеральные нормы», «либеральные меры», «либеральные взгляды», – все эти понятия, воспринимаются общественным сознанием, как правило, именно в таком ключе. Так, «либеральным» называется то законодательство, которое обеспечивает, защищает свободу, «расширяет» её. То же и с либеральными нормами не только в праве, но и в морали, религии. Либеральные меры – это такие, которые способствуют увеличению свободы в той или иной сфере общественной жизни. Либеральные взгляды, присущи, конечно, свободному и свободолюбивому человеку. О либерализации нечего и говорить. Для правоведов, политологов, экономистов, это понятие стало почти термином. Учёные-экономисты, например, много говорят о «либерализации экономики», то есть уменьшении налогового бремени, ослаблении контроля, снятии запретов и ограничений и т.п. Весьма характерно также понятие «свободный рынок» – одно из ключевых для либерализма. Либерализация, собственно и означает, – расширение свободы, продвижение к ней, своего рода «свободизацию». Такая синонимичность, надо полагать, немало поспособствовала (и продолжает способствовать) торжеству либеральной идеологии, победному шествию либерализма в современном мире.
Трактовка либерализации как «движения к свободе» находит своё подтверждение и в различных словарях и энциклопедиях. От знаменитого труда В. И. Даля, до ещё более знаменитой сегодня «Википедии». Слово «либеральный», происходит от латинского «liberalis», что значит свободный, сообщается в них. Этот перевод, однако, как будет показано далее, не может служить достаточным основанием для узурпирующей «синонимизации» и дальнейшей идеологизации понятия «свобода», которые осуществляются либеральными писателями, начиная, по меньшей мере, со времён Дж. Локка.
И не только потому, что свобода, – одно из основополагающих понятий человеческого духа и требует, поэтому философской интерпретации, а не «перевода». Свободолюбивым адептам либеральной идеологии следовало бы опираться не на словари, а подумать над тем, какой смысл вкладывался изначально в понятие «liberalis», является аутентичным для него. Это, тем более важно, что и в «родном» для либерализма английском, и в других основных европейских языках, – русском, немецком, есть свои, родные слова для обозначения понятия «свобода». Продумывание этимологии этих слов, в контексте рассмотрения обоснованности самоаттестации либерализма в качестве проводника и защитника свободы, выявляет «на стыке» языкознания и политической теории проблемное поле, практически «непаханное» современной наукой.
Напомним, в этой связи, что, согласно современным научным представлениям, язык есть средство репрезентации мира, материал для построения в сознании его картины. По чеканной формуле Л. Витгентштейна, «границы моего языка, определяют границы моего мира». Для нашего анализа особенно важна вполне однозначно установленная исследователями (во всяком случае, для ранних стадий общественного развития) существенная связь языка народа и его социальной организации, социального устроения его бытия. Соответственно, именно этимология слова «свобода» может сказать о том, как понимали её существо в том или ином «социальном универсуме». Как говорит Х-Г. Гадамер: «Наш опыт мира вообще развёртывается из среды языка».427 Итак, что представляет собой «опыт свободы» согласно путеводной нити языка? В английском и в немецком, вообще, в германских языках, родное слово для обозначения понятия «свобода» имеет корень «fre», что задает основополагающее направление поискам его изначального смысла. Э. Бенвенист, самый авторитетный, наверное, исследователь данной проблематики, отмечает: «Что касается германских языков, то до сих пор ощущаемая связь между нем. Frei «свободный» и freund – «друг», позволяет восстановить исходное понятие свободы, толкуемой, как принадлежность к замкнутой группе людей, в общении между собой называющих себя «друзьями»428. И далее в развитие сказанного: «Благодаря своей принадлежности к группе людей, объединённых общностью рождения или дружескими отношениями, индивид является не только свободным, но и самим собой»429.
То есть, исходно, свобода означала принадлежность к определенной общности, определенному, подсказывает язык, кругу, – кругу друзей, как мы и сегодня еще называем дружескую общность. Уточним также, что, поскольку эта общность, группа была замкнутой, как указывает Бенвенист, (а круг, заметим, по своему понятию есть нечто замкнутое), постольку случайные симпатии, очевидно, не могли быть основанием для включения в неё. Хорошо известно также, что в ранних обществах именно общность происхождения, а не абстрактно понимаемые «дружеские отношения» была решающим фактором вхождения в определенный круг общения. Соответственно получаем исходное понимание свободы – это включённость в круг людей, объединенных общностью происхождения и (не или!) дружескими отношениями. Эта сущностная характеристика подтверждается и выводом, который делает Бенвенист на основе изучения этимологии слова свобода в греческом, латинском и некоторых других языках. «Из существительного leudho- легко вытекает (e)leudhero» для обозначения принадлежности к «этническому корню» (роду, ср. без роду-племени, перекати-поле,–С.Г.) и состояния свободного человека»430. И далее принципиальное утверждение: «Обнажаются социальные истоки понятия «свободный». Первоначальным оказывается не значение «освобождённый, избавленный от чего-либо», на первый взгляд, казалось бы, исходное, а значение принадлежности к этнической группе, обозначенной путём растительной метафоры. Эта принадлежность даёт человеку привилегии, которых никогда не имеет чужестранец и раб»431.
Теперь конкретно о латинском «liber». Вначале, краткий «реально- исторический» комментарий, который только на первый взгляд может показаться отступлением от темы. История этого слова действительно интересна, можно даже сказать, поучительна. В римской мифологии оно было именем древнего бога плодородия и оплодотворяющей силы. Либер – это римский аналог Вакха-Диониса, плебейский бог, храм которого был религиозным центром борьбы плебеев против патрициев. На празднованиях, посвященных Либеру: «раскачивали сделанный из цветов фаллос и совершали всякие «веселые непристойности»432. Показательная, заметим, параллель с современным «гей-парадами», о свободном проведении которых либерализм не устает заботиться и по прошествии двух тысяч лет. И это не говоря уже об известных смысловых коннотациях понятия «вакханалия», с которым либеральная идеология, очевидно, не хочет иметь «ничего общего».
Что касается собственно этимологического значения слова «liber», то согласно Бенвенисту, оно – «полностью соответствует греческому законнорожденный» и, соответственно, у греков и римлян, одна основа понятия «свобода» – «быть законнорожденным и быть свободным – одно и то же»433. Отметим здесь также, что достаточно прямая связь понятия «свобода» с общей принадлежностью к «этническому корню» и «законнорожденностью» может быть установлена и для германских языков, что не замечает Э. Бенвенист434 и, что, вообще говоря, и должно иметь место в силу принадлежности и германских языков, и греческого с латинским, к общей индоевропейской семье. Германский корень «fre» созвучен и весьма схож по смыслу с латинским и греческим «fra». Греческoe «fratria»: «фратрия (собственно братство, ср. лат. frater), род, колено, часть народа, связанные между собой узами родства»435. Исходное значение греческого корня «fra» может быть реконструировано как «связанное внутри себя и огражденное, защищенное целое»436. Отсюда и такие греческие слова как «фраза», «фрагмент». В латинском, «frater» означает: «брат, двоюродный брат, муж сестры» и далее: «брат=друг», «братский: а) = родственный; б) = дружеский»437. То есть, в данном случае, проявляется известная закономерность расширения значения слов, когда изначально сугубо родственное «брат» распространяется и на других близких людей – друзей, а «братство» на круг друзей, – дружину. Подобные явления, как известно, в полной мере, сохраняются и в современном русском языке – «братство по оружию», «названый брат» – это ведь и сегодня нечто большее, чем только метафоры. Показательно в этой связи и белорусское слово «сябар» (= друг) по сей день сохраняющее в народном говоре форму сябра. Эта вполне прозрачная форма показывает исходное значение понятия друг, – со-брат, т.е. тот, кто входит в общее со мной, (со)-единение, единство, в общий круг, к которому мы вместе принадлежим, который свой и для меня, и для него. Важно помнить и о фонетической закономерности взаимоперехода «б»-«в»(ф). Греческое «frat(ria)» и латинское «frat(er)», таким образом, и по звучанию, и по значению практически совпадают и с английским «brоther», и, с русским «брат». Этимологические параллели позволяют, таким образом, уточнить исходное и для германских, и для греческого и латинских языков понимание свободы, – быть свободным, значит быть в кругу своих близких, среди собратьев, принадлежать к братству.
Обратимся теперь к русскому языку. Здесь у «свободы», как кажется, другая этимология. Не «просматривается» «круг собратьев». Но это только на первый взгляд. Русское слово «свобода», свобод,438* очевидно, составное и состоит из двух слов: «свой» и «обод», складывающихся в единое понятие – «свой обод», т.е., собственно, – свой круг. В значении круг = кольцо или, что тоже самое, обод. «Концепт форма кольца, – отмечает Т. В. Топорова, – актуализирует наличие свободного пространства внутри»439. И не просто «свободного», – кольцо – один из древнейших символов человеческой культуры, может быть древнейший, во всяком случае, самый распространенный талисман, оберег. В понятии «кольцо», «круг» слиты смыслы неразрывной связи-единства и защищенности, наличия свободного и кругом огороженного, и, поэтому, защищенного со всех сторон пространства. Почему герои Гоголя и чертили круг для защиты от «злых сил». В понятии «круг» пишет Топорова: «актуализируются семемы «объединенность», «соединенность», «общность», «целостность», и «Очень важную роль образ круга играл в представлении космоса как организованного пространства. Линия круга отделяла космос от хаоса (подчёркнуто нами – С. Г.)»440.
Круг – это круг бытия, образ мира которому принадлежит человек, в котором он живет и который, поэтому для него свой. Живя в своем мире, человек был в своем кругу, в защищенном и упорядоченном, своем ободе. Круг (обод) отделял свой мир от не своего, неосвоенного, чужого. По словам Топоровой: «идея отделения наиболее полно воплощена, в общем для древнегерманских языков наименовании (земного) мира как среднего огороженного пространства, истоки которого несомненно восходят к общегерманским представлениям (скорее к общечеловеческим, во всяком случае, не только к «общегерманским» С.Г.). Мифологема мира как «среднего огороженного пространства», имеющего форму круга, надежно восстанавливается также на основании некоторых мифологических мотивов»441.
В связи с этим, интересно, что в русском языке слово «обод» (обвод), по Далю, имеет и такое значение: «место кругом огороженное, городьба». Человек свободен, имеет свободу, соответственно, тогда, когда находится в своем «городе», защищенном кругу. В целом, концепт «свобода» содержит, в аспекте «своих», следующие основные смыслы: единство-общность, защищенность, организованность. Другими словами, исходное значение понятия «свобода» в индоевропейских языках – это жизнь в кругу своих, включенность в определенный, свой круг бытия, принадлежность к общности, частью которой себя ощущаешь, которая и составляет, собственно, твой мир. Показательно в этой связи русское «мир» в значении «общество». Кстати, и казачий круг (обод), в принадлежности к которому и состоит свобода вольного казака.
В этом контексте, становится понятным и сохранявшееся вплоть до середины 19-го века отношение русских крестьян к общине-мiру, расцениваемое либеральными пропагандистами едва ли не как проявление «рабского сознания», «привычка к несвободе». Понятно и то, почему «рабочий класс», пролетариат у которого нет ничего своего, и не только в экономическом смысле, – другое дело. Тем, кто лишён своего круга действительно можно «привить» революционное сознание, желание «бороться за свободу». Такая борьба, в некотором смысле, даже необходима для «пролетария», поскольку он, закономерным образом, воспринимает всякое ограничение-норму как насилие, нечто сугубо внешнее, враждебное, именно не своё, – «цепи» для его свободы.
Теперь, проследив «нить» языка, обратимся к экзистенциально-философскому анализу понятия и феномена свободы. Гегель, в философии которого, понятие свободы играет важнейшую роль, составляет сущность духа и человека определяет её как «бытие у себя». Это определение сущности свободы, свободное от идеологических спекуляций, обусловлено внутренней логикой её понятия. В его конкретизации и состоит дальнейшее движение мысли. Вопрос, на который мало внимания обращалось в после гегелевской философии,442 заключается, следовательно, в том, что значит «быть у себя»? Самый общий ответ, «первый шаг» к конкретизации понятия свободы уже дан языком: быть у себя, означает быть в своём кругу. Мышление и язык, таким образом, говорят одно и то же. Это и не может быть иначе, поскольку человек есть социальное существо, а его сущность есть свобода. Эта последняя, соответственно, есть социальное качество, что означает, что в своей действительности для индивида, его свобода создаётся другими. Эта основополагающая истина человеческого бытия непосредственно явлена в процессе становления (воспитания в ребенке) человеческой личности. Но и далее, не говоря о ребенке, «быть у себя» не значит быть самому по себе, одному, одиночество, изоляция не есть свобода, скорее ее отсутствие. И Робинзон Крузо, очевидно, был не свободен, а скорее, заключен на своем острове, почему и стремился вырваться с него, вернуться домой (= освободиться).



