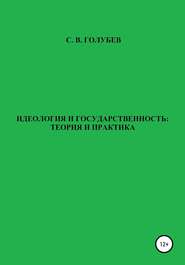 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Это обусловлено тем, что понятие «современность» связано с феноменом индивидуализма не только внешне-идеологически, но и внутренне, идейно, если угодно, метафизически. Со-временность отсылает к временности бытия, к его преходящести, и по идее своей формирует определенное отношение ко времени, как бытийной сущности. Современное время, отличая себя в качестве настоящего от прошлого, которого «уже нет», разрывает укорененный в традиции кругооборот «вечного возвращения». Время перестает быть цикличным, приобретает направленность и, тем самым, неповторимость, уникальность каждого своего момента. В качестве совокупности уникальных моментов, оно поступает в распоряжение индивида, становясь совокупностью уникальных моментов его бытия, порождая невозможную, немыслимую прежде уникальность его индивидуальной, личной, частной жизни, которая, только теперь, и становится возможной, в качестве таковой. Поскольку моменты времени стали моментами личной жизни индивида, они для него приобретают цену, он начинает ценить время. Оказавшись «внутри» этой экзистенциальной необходимости, будучи поглощенным ею и все больше «растворяясь» в ней, он неизбежно приходит к тому, чтобы ценить, точнее даже, – ловить момент, жить «здесь и сейчас», с дальнейшим необходимым следствием «обмена» моментов своей жизни на всеобщий эквивалент, который, собственно, и позволяет не «откладывать жизнь на потом» и «жить для себя». Соответственно, формулируется и становится истиной «практического разума», максима «Время–деньги», дающая квазифилософскую легитимацию суете, погруженного в современность, утратившего всякую связь с Вечностью (да и интерес к ней) индивида. Эта погруженность, узаконенное стремление «жить сегодняшним днем», естественным образом (и окончательно) отрывает индивида от традиции и замыкает горизонт его мировосприятия на повседневности, что и является экзистенциальной предпосылкой индивидуализма.
Можно сказать, таким образом, что представление о «современности» само по себе стимулирует, провоцирует индивидуализм и эгоизм, превращая современного человека в индивидуалиста, определяющей чертой психологии396 которого становится эгоизм. Современное общество, соответственно, идеально-типически оказывается обществом «разумных эгоистов», а практически – всё более индивидуалистическим обществом. Этот оксюморон, в силу ряда очевидных причин, не может быть прямо провозглашен в качестве самоназвания либерального общества (цивилизации), поэтому оно взяло себе псевдоним (что, вообще говоря, очень в либеральном духе), – «современное». Этот псевдоним оказался находкой для либеральной идеологии. Главным, наверное, идейным оружием в её борьбе с врагами «открытого общества». Концептуализировав это понятие-название, либерализм, по логике вещей, противопоставил ему понятие «традиционного общества», что позволило придать идеологической борьбе форму научного исследования, эмоционально-психологическому давлению – видимость рационального обсуждения (= научной, = рациональной = цивилизованной дискуссии, о которой так любят поговорить адепты либерализма).
Дихотомия «традиционное/современное» общество позволила непосредственно перейти к дискредитации традиции как таковой. Последняя теперь оказалась чем-то противостоящим «современным веяниям», «тормозом на пути прогресса». Но дело, ещё и в том, что принципиально в это базовое различение встроена практически неограниченная возможность для заполнения смыслами, противопоставляюще-оценочного, антагонистического характера, такими как: прогрессивное/реакционное, передовое/отсталое, новейшее/устаревшее; устремленное в будущее/цепляющееся за прошлое; молодое, динамичное, развивающееся/отжившее, косное, застойное и т.п. Более того, различение современного и традиционного – не только удобная форма для заполнения уже готовыми смыслами, но и безотказная «матрица» для производства новых, в том числе, для «переоценки ценностей» прошлого, с современной точки зрения, конечно. Причём все эти операции по «перезагрузке» и производству смыслов и оценок получают возможность быть представленными в качестве результатов «закономерностей общественного развития», «научных открытий» и даже «простого обобщения эмпирических фактов». Этой цели, собственно, и служит, созданная либерализмом социальная наука, поставившая на поток производство «экономическо-философских рукописей» и, всякого рода, социально-психологических и подобных им исследований. И, надо сказать, что делает она это совсем не либерально, пытаясь присвоить себе исключительное право на объективность и дискредитировать несовременные познавательные практики. На догматический и тиранический характер социальной науки, её служебно-идеологическую роль указывал, в частности, П. Фейерабенд: «Либеральные интеллектуалы являются также «рационалистами», рассматривая рационализм (который для них совпадает с наукой) не как некоторую концепцию, среди множества других, а как базис общества. Следовательно, защищаемая ими свобода, допускается лишь при условиях, которые сами исключены из сферы свободы. Свобода обеспечена лишь тем, кто принял сторону рационалистической (т.е. научной) идеологии»397. Узурпация истины «современностью», осуществляемая либеральной идеологией, объективно представляет собой средство интеллектуального подавления «традиционных обществ», их идеологий. Как отмечает тот же Фейерабенд (как известно, далеко не «консерватор» или «националист»): «вместе со скрытым догматизмом наших современных друзей свободы, обнаруживается ещё одно: демократические принципы наших дней не совместимы с беспрепятственным существованием и прогрессивным развитием национальных культур. Рационально-либеральное общество неспособно включить себя негритянскую культуру в ее подлинном смысле. Оно не способно включить в себя подлинную еврейскую культуру или культуру Средневековья в их чистом виде»398.
Интеллектуально-научное отторжение-принижение традиционных культур, позволяет либерализму далее использовать сконструированную им матричную форму «традиционное /современное» для теперь уже прямо оценочной характеристики современного (= либерального) общества, как: «открытого», «свободного», «рационально устроенного», «правового» и т.п., и даже как здорового, а в отдельных, предельно откровенных случаях, как нормального! Традиционное общество оказывается, таким образом, прямо отсталым и, конечно: «закрытым», «несвободным», «нерационально устроенным», «неправовым»; и … далее по тексту. А значит, выявляется (подтвержденная научными исследованиями!) закономерная необходимость его осовременивая-оздоровления, приведения, так сказать, «в соответствие», к нормальному состоянию. На помощь опять приходит социальная наука, которая вырабатывает понятие и создаёт теорию «модернизации». Последняя, надо сказать, представляет собой характернейший образчик либеральной творческой мысли, – теорию не только без закономерностей (не говоря уже о законах), но и без достоверно установленных фактов, и даже, без автора (авторов)399. Всё это, впрочем, не мешает «теории модернизации» играть ту роль, которая, очевидно, и предназначена ей в рамках либеральной идеологии, – роль инструмента управления нелиберальными обществами. Она позволяет обнаруживать в любом из них препятствующие «экономическому росту» «традиционные структуры и отношения», устанавливать «удельный вес» последних и, соответственно (опять же на научной основе), задавать направление «развития» того или иного «традиционного общества» и определять «конкретные механизмы» его «реформирования», с тем, чтобы помочь ему избавиться от «пережитков прошлого». Таким образом, посредством «теории модернизации», либерализм оказывается хозяином положения на «мировом рынке» «научно-политико-идеологических» услуг.
Поскольку понятия «либеральное общество» и «современное общество» (= современная цивилизация) являются, по существу, тавтологичными, становится необходимым применение «бритвы Оккама» и «исправление имён», во всяком случае, в «научном дискурсе». Псевдоним «современное общество» (цивилизация) должен быть выведен за его рамки. Объективность и ясность мысли требуют, таким образом, переименования «второго члена» вышерассмотренной дихотомии. Последняя, в соответствии с существом дела, может быть представлена разделением обществ на традиционные и либеральные или традиционные/нетрадиционные, а максимальная ясность, в данном случае, достигается, наверное, посредством разделения на традиционное общество и общество нетрадиционной ориентации. Слово «ориентация», заметим, объективно подчеркивает динамизм «современного» нетрадиционного общества, отсутствие в нем жёсткой нормативности, его открытость и устремленность в будущее. Наименование либерального общества400, обществом нетрадиционной ориентации, проистекает из объективного понятийного различения и, потому, свободно от субъективизма и идеологических привнесений, и, как представляется, в наибольшей степени раскрывает его действительную сущность и логику развития. Завершая наше краткое исследование терминологических особенностей «либерального дискурса», можно сказать, что знаменитая максима Декарта о необходимости «определять точно значения слов, чтобы избавить человечество от заблуждений» особенно значима в отношении либеральной идеологии.
Концептуальный анализ понятийного аппарата либерального теоретизирования должен, по необходимости, оставаться абстрактным, и не может, конечно, заменить конкретного рассмотрения важнейших экзистенциальных феноменов современной либеральной цивилизации. Поскольку она является «не»– и даже «анти»– традиционной, очевидно, что характерный для нее образ жизнедеятельности, феномены её культуры, должны быть сугубо специфичными, сущностно отличающимися от тех, которые свойственны традиционному обществу. Иными словами, не просто абстрактная система ценностей (это само собой), а все основные конкретные явления и формы человеческой жизни: религия, мораль, культура и искусство, политика, хозяйственная деятельность, познавательная деятельность и образование, семейные отношения, досуг и развлечения, – всё это в обществе нетрадиционной ориентации, «ориентировано» иначе, нередко даже, в принципиально ином, противоположном направлении, чем в известных истории традиционных цивилизациях. Ясно, что сколько-нибудь подробное описание этих феноменов, не говоря уже об их специальном анализе, – задача не для одного конкретного исследования, и, наверное, даже, не для одного исследователя. В настоящей работе мы ограничимся поэтому, краткими указаниями на наиболее яркие и характерные проявления нетрадиционной ориентации традиционных форм человеческой жизнедеятельности в либеральном обществе начала 21 века.
Важнейшей из этих форм, видимо первичной, собственно человеческой, формой социального взаимодействия, является, как было показано выше, ритуальная, культовая деятельность, – религия. Либерализм, в своей классической форме, начинавший с пропаганды «веротерпимости», всегда «прохладно» относился к религии. Уже сама эта «терпимость», бывшая одним из эвфемистических либеральных псевдонимов равнодушия, в соответствии с понятием, предполагала определенную «прохладу». Последняя, однако, проистекала не из равнодушия, которое для либеральной идеологии в отношении религии могло быть только тактическим, показным. Что и выяснилось вскоре после локковских «Писем», когда либерализм назвал себя «Просвещением» и от имени «Разума» и «здравого смысла» объявил религию «служанкой деспотизма» и «собранием предрассудков и суеверий». Дело в том, что религия, религиозная система ценностей, как таковая, принципиально противоположна системе ценностей либеральной идеологии. Выше это было специально и систематически показано и обосновано. Здесь, напомним только, что либерализм, вслед за Протагором провозгласил человека «мерой всех вещей», что, как было отмечено уже Платоном, неизбежно ведет к прямому противоборству с той системой ценностей и социально-политического устройства, «мерой» для которой является Бог. Поэтому, какой-бы не была на практике в той или иной конкретной исторической ситуации политика либерализма по отношению к религии, по существу своему, это две антагонистические идеологии. Впрочем, стратегия либеральной борьбы с религией, как раз и заключается в применении неантагонистической тактики. Здесь – прямая аналогия с отношением к государству в политической сфере, – постепенное реформирование. Открытые, направленные на непосредственное уничтожение религии (и её служителей) «кавалерийские атаки», – прерогатива левых экстремистов, от якобинцев до троцкистов-ленинцев, что, опять же, имеет чёткую аналогию в революционном политическом терроре лево-социалистических партий.
Суть либеральной тактики в борьбе с религией раскрыта Гегелем в его рассмотрении «борьбы просвещения с суеверием» в «Феноменологии духа». Гегель определяет «Просвещение» как «распространение чистого здравомыслия», которое «знает веру, как то, что ему, – разуму и истине – противоположно»401. Характеризуя антагонистическое отношение Просвещения к религиозной вере вообще, он говорит, что для «чистого здравомыслия, вера, в общем, есть сплетение суеверий, предрассудков и заблуждений, царство заблуждения». Поэтому Просвещение, считающее себя светом Разума, задачей которого, как раз, и является искоренение предрассудков, воспринимает религиозное сознание как «врага», – именно это слово употребляет Гегель. Вообще, цель идеологии «просвещения», согласно философу, заключается в том, что бы «разрушив предрассудки», вытеснить религию из «наивного сознания» народных масс и самой занять её место». Для этого «чистое здравомыслие просвещения» избирает тактику, гегелевское описание которой, представляет собой прекрасный образец сочетания предельной философской абстракции с яркой образностью. То, как Просвещение, его идеалы, – «сообщение чистого здравомыслия» «проникает в наивное сознание», говорит Гегель: «можно сравнить со спокойным распространением какого-нибудь аромата, беспрепятственно наполняющего собой атмосферу. Оно есть всюду проникающая зараза, сначала не замечаемая… Лишь когда зараза распространилась, она существует для сознания, которое беспечно отдалось ей». Именно посредством такого ароматического распространения «зараза» просвещенческого «здравомыслия» (локковский common sense) «поражает самую сердцевину духовной жизни» и в «наивном сознании», – «нет такой силы, которая могла бы превозмочь заразу», «словно невидимый и незаметный дух она пробирается вглубь в самые благородные органы… и если зараза проникла во все органы духовной жизни, только память тогда сохраняет ещё мертвый образ прежней формы духа»402. Эти гегелевские слова о «мертвом образе прежней формы духа» вспоминаются, когда видишь на площадях западноевропейских городов практически опустевшие, недействующие, превращенные в музеи, а то и отданные под «культурные мероприятия», христианские храмы.
Гегель характеризует и ту систему ценностей, которую Просвещение предлагает взамен религиозной. Отмечая, что полезность – основное понятие Просвещения, он пишет, что «оно объявляет еду или обладание вещами – самоцелью и, тем самым, выказывает себя фактически весьма нечистым намерением (подчёркнуто нами – С. Г.), которое придаёт абсолютно существенное значение такого рода наслаждению и обладанию»403. Мыслитель указывает и на принципиальное основание этой, порождающей «нечистые намерения», системы ценностей, – это фундаментальное для учения Просвещения и идеологии либерализма утверждение самодостаточности индивида. В гегелевской терминологии это звучит так: «положительная истина Просвещения, вообще», есть «исключённая из абсолютной сущности (то есть оторванное от связи с Богом-абсолютом – С. Г.) единичность сознания и всякого бытия, как абсолютного бытия в себе и для себя»404.
Поскольку «единичность» сознания абсолютизируется в себе и для себя, отношения с Богом оказываются исключительной прерогативой этой «единичности», – индивида как такового. Соответственно, либеральная идеология, черпая из «сокровищницы идей» Просвещения и применяя их к общественно-политической сфере жизни общества, объявляет религию, – частным делом. Революционный характер этого принципа часто недооценивают, вообще, он кажется достаточно безобидным. Однако это один из важнейших элементов той «заразы», которая разъедает органы духовной жизни. И дело даже не в том, что на практике, в действительности все религиозные культы всегда и везде отправлялись в коллективной форме и либерализм требует чего-то совершенно нетрадиционного, небывалого. В данном случае революционность заключается не просто в небывалой новизне (в конце концов, можно сказать, что всё когда-то бывает впервые), а в противоречии этого требования логике и здравому смыслу, в его несоответствии самому понятию религиозной жизни. Принцип «религия – частное дело» принципиально означает, равнозначен принципу «у каждого свой Бог». Религия же, по определению, есть связь, – и не только практически, но и принципиально может существовать только в общине. Религиозная служба – определенный ритуал связи с сакральным, как таковой, требует определенных знаний и определенной организации. Эти последние, в соответствии с понятием, предполагают известную объективность и иерархию. Во всяком случае, немыслимы в качестве производных сугубо субъективной продуктивности, поскольку в этом случае, «бог» окажется «во власти» индивида, простым продуктом его произвола. Отношение человек-Бог, таким образом, будет «перевернуто». Этим и определяется принципиальная революционность и принципиальная же «нечистота намерения» (чтобы не сказать больше) либерального требования провозгласить религию «частным делом».
Впрочем, либерализм не требует прямо, чтобы у каждого был «свой Бог» (хотя именно эту формулировку сегодня часто можно услышать от носителей «развитого» либерального сознания), он хочет только дать возможность каждому верить по-своему, самостоятельно, без посредников общаться с Богом. Либеральная идеология хочет видеть религиозную общину чем-то вроде добровольного союза, «религиозно-общественного договора» свободных и равноправных верующих. Поэтому «критике» подвергается, прежде всего, церковная организация, – «гадина», которую надо «раздавить», – таково, как известно, требование одного из самых громких глашатаев Свободы. Уже Реформация, эта мать Просвещения, выступала с проповедью договорных отношений в Церкви и против церковной иерархии. Их внук и сын, либерализм, превратил эти положения в догму и развил в политическое требование отделения церкви от государства. Это отделение в окончательной перспективе должно было превратить церковь в некое подобие частного клуба по интересам.
В этой связи, надо сказать, что и в практическом отношении представление, согласно которому религиозная вера возможна «без» и «вне» религиозной организации, неосновательно и, может быть следствием либо недоразумения, либо лукавства. Всегда и везде священнодействие требовало профессионалов, – шаманов, знахарей, жрецов. Их специально обучали, им передавали специальное сакральное знание, у них, как считалось, были «от рождения» и развивались особые психические и физиологические способности. Так было и есть в любой традиционной культуре, и, в качестве остаточных явлений, сохраняется по сей день, даже в самых выхолощенных версиях протестантизма в форме «теологического образования» священнослужителей. Нетрадиционно ориентированный либерализм считает эту общечеловеческую практику, в принципе, неправильной. И он немало потрудился для ее разрушения. Не столько попытками «раздавить», – эта прерогатива была передана «младшему брату» – социализму, сколько излюбленной тактикой постепенных, незначительных, но неуклонных изменений, незаметного распространения «заразы», если воспользоваться выражением Гегеля. Друзья свободы – защитники (руководствовавшиеся естественно благими намерениями) прав, стали пропагандировать и отстаивать то положение, что каждый, на равноправной основе, может и должен читать и понимать/толковать Слово Божие. Библию стали переводить на «родные языки», учреждались «Библейские общества», занимавшиеся просветительской деятельностью с тем, чтобы сделать Слово Божие общедоступным. Процесс этот продолжается и сегодня, число различных переводов растет, язык их постоянно модернизируется, осовременивается, в целях «доступности», конечно.
Таким образом, либерализм и здесь «переворачивает» естественное положение дел. Если любая традиция считает, что человек должен стремиться, приближаться, идти к Богу, то идеология свободолюбия и гуманизма хочет приближать, привести Бога к человеку. Последнему незачем куда-то идти (самосовершенствоваться), Бог и так должен быть ему доступен. Непонятен язык священных текстов? Не надо ничего учить, – переведем на «родной». Перевод слишком сложен? Опять же, не надо напрягаться, упростим, в соответствии с духом времени, даже Библию в комиксах создадим. Переворачивая отношение долженствования, либерализм требует от религии (если, конечно, она хочет сохранить свое значение) быть полезной человеку, фактически служить ему. Это означает, что впервые в истории священное (всеобщее) должно найти свое оправдание у единичного и фактически низводится до средства удовлетворения желаний, того или иного конкретного индивида. Эта уникальная специфика цивилизации нетрадиционной ориентации, разрушающая важнейший стимул самосовершенствования человека может означать конец не только религии, но и традиции вообще, а, тем самым, и человеческой истории как таковой.
Либерализм и мораль, и культура. В нетрадиционном обществе культурой либерально называется всё. Всё, – от сакрального ритуала до экскрементов художника сваливается в «одну кучу» и оказывается «феноменом культуры». Так стираются грани, размываются и уничтожаются критерии, исподволь, шаг за шагом, разрушается сама способность к различению, составляющая сущность духовной и интеллектуальной деятельности. Вообще, различие как таковое, – это метафизическое основание не только культуры, но и бытия вообще, – является действительным онтологическим врагом нетрадиционно ориентированного духа, устремленного к энтропии равенства без-различия. Это либеральное без-различие своим практическим основанием имеет отрицание нормы. Нормы как таковой, дискредитацию самого её понятия. Сегодня оно, «без долгих разговоров», объявлено тоталитарным.
Если культура вообще начинается с табу, которые служат основанием дальнейшего морального различения и нормирования, то для современной цивилизации, культура есть нечто прямо противоположное. Её сущность представляют как «снятие табу», освобождение от запретов, а её прогресс – как всё более расширяющееся, вплоть до беспредельности, толкование понятия нормы. Поскольку экзистенциальный смысл последнего как раз и заключается в установлении различения, он постепенно растворяется в процессе этого стремящегося к беспредельности расширения. Таким образом, методом распространения «ароматной заразы», осуществляется экзистенциальная нормализация ненормального. Либерализм, очевидно, не устраивает библейское «да/да– нет/нет», он акцентирует именно «остальное». Одним из конкретных практических средств такой нормализации являются призывы к «терпимости», которые либерализм не устает повторять. Толерантность является основополагающей категорией нетрадиционной морали. Начав с призывов к «веротерпимости», либерализм, придя к господству, отбросил уточняющую «приставку» «веро» и сегодня призывает просто к терпимости, рекомендует, (причем, все более настоятельно, чтобы не сказать нетерпимо) вообще быть терпимым. Это требование – №1 в неписаном уставе либеральной жизнедеятельности. Важнейшая отличительная черта современного культурного цивилизованного человека. Необходимое, а сегодня уже, по-видимому, и достаточное условие получения этого выдаваемого либерализмом «аттестата».
Но что может означать призыв к терпимости вообще? Спрашивается, к чему в действительности призывают? Если речь идет о терпимости к тем «точкам зрения» и проявлениям, которые по существу своему не имеют отношения к различению добра и зла, не релевантны сфере морального суждения, то такой призыв совершенно излишен. Ни один вменяемый человек, очевидно, не будет проявлять нетерпимость к мнению, что на Марсе когда-то была жизнь или к человеку, любящему развлечься на досуге игрой в шахматы. Презумпция вменяемости заставляет предполагать, что адепты либерализма имеют в виду терпимость не такого рода. Для чего же тогда пестуется и насаждается толерантность, что именно предлагается терпеть? Вопрос, вообще говоря, что называется, риторический и ответ на него вполне очевиден. Но либерализм, конечно, никогда не признает, что он призывает попустительствовать злу. Для того чтобы «откреститься» от этого обвинения, вытекающего в качестве логически необходимого следствия из призывов к (возможно большей) терпимости, либерализм утверждает «относительность понятий добра и зла», стремится снять различение добра и зла, как таковое. Дело, таким образом, заключается не столько в том, чтобы отучить человека противостоять злу, сколько в том, чтобы научить не замечать его. Убедить человека в том, что зла, собственно нет, это только слово, и, в конечном счете, разрушить, присущую человеку способность морального суждения, основанного на различении добра и зла. Здесь нельзя не вспомнить знаменитый тезис одного из врагов «открытого общества» Аристотеля о том, что «только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п.» и именно «это свойство людей отличает их от остальных живых существ»405. Если способность морального суждения отличает человека от животных, то ее разрушение, очевидно, объективно, вне зависимости от, возможно благих намерений друзей терпимости, ведет к его превращению в некоего биоробота, – во владеющего строго определенными навыками оператора по производству и обслуживанию разного рода технических изделий.



