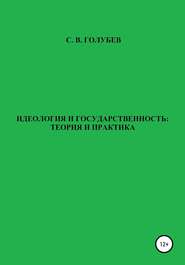 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Что касается ценностной составляющей социального познания, то идеологический характер той же социологии заключается не столько в том, что она базируется на определенном мировоззрении и ценностях, сколько в том, что она отрицает мировоззренческую природу своих основоположений и выводов и объявляет их и только их, «свободными от ценностей», подлинно научными и т.п. Эта претензия на монопольное обладание истиной, закономерным образом, приводит к претензиям на декларацию и правильное понимание «общечеловеческих ценностей», «прогрессивность» и т.п., что, в свою очередь, не может не вести к прямой или косвенной дискредитации иных мировоззрений и систем ценностей как ненаучных, «анти-» и «недо-», «общечеловеческих», «реакционных» и т.п. А такая дискредитация как раз и составляет существо идеологической установки сознания. Соответственно, оперирование отмеченными понятиями, в особенности, выработанным идеологами Просвещения и Революции, понятием прогресса, – является маркером сугубо идеологического дискурса.
Поэтому действительная деидеологизация социальной науки своим необходимым условием имеет, также, признание ею возможности и правомерности других, не нуждающихся в ее санкции, путей к Истине и Благу. Иными словами наука, в особенности социальная, должна в полной мере осознать ценностную природу своих собственных основоположений и отказаться от противоборства с другими мировоззренческими системами, прежде всего, с религией. Сегодня это тем более необходимо, что связь науки со сферой ценностей признается самими учеными. «Наука, – говорит один из крупнейших психологов 20 века А. Маслоу – базируется на человеческих ценностях и сама по себе является ценностной системой»361. В формулировке науковеда Х. Патнэма та же мысль выражена еще более резко: « каждый факт нагружен ценностью и каждая из наших ценностей нагружает некоторый факт», поэтому «не иметь ценностей значило бы также не иметь никаких фактов»362.
Наука, следовательно, не может претендовать на исключительность своей интерпретации действительности, «научной картины мира». Ее истина – только одна из истин, видимая под определенным «углом зрения». И задача науки – изучение того, что есть под этим своим «углом», а не борьба с другими точками зрения и «картинами мира», даже если эта «борьба» и представляет себя борьбой за «прогресс» и построение «справедливого общества».
§3. Идеология и образование
Гегель, начиная преподавательскую деятельность в Гейдельбергском университете, во вступительной речи, предваряющей курс лекций по истории философии, сказал: «Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа – вот первое условие философии»363. Поскольку Гегель, как известно, считал философию наукой, сферой «высших научных интересов», это, названное им условие, очевидно, сохраняет силу, также и для науки в целом, в том числе, и даже, прежде всего, поскольку речь обращена к студенческой молодёжи, для изучения науки, для получения знаний и образования. Более столетия спустя такую же, по сути, мысль высказал другой крупнейший немецкий философ М. Хайдеггер: «Сущностная полнота «образования» может осуществиться только в области истины и на основе истины»364. Эти суждения величайших мыслителей могут, конечно, показаться банальной констатацией самоочевидного. Во всяком случае, их вряд ли кто-то возьмётся оспаривать. Ни Гегель, ни Хайдеггер, однако, не высказывают банальных суждений. Проблема, соответственно, заключается в том, чтобы в возможно более полной мере осознать, что сказанное ими не просто слова, а то, что требует самого серьезного отношения, – такого, которое позволило бы понять, что вера в силу духа и возможность приблизиться к Истине, – это действительно необходимое условие познания и образования.
Но сегодня в либеральном мире, в онтологическом основании которого лежит только «вечно движущаяся материя и пустота», где только индивид реален, и только он может быть мерой, господствует вера в то, что «дух» есть ничто, nomina, – пустое слово. Наука в этом мире не ищет, да и не может искать истину, которая есть конвенция. Сегодня об истине договариваются и требуют от нее приносить пользу. В противном случае, ей отказывают в праве на существование, переводя в разряд курьезов, более или менее забавных, а то и прямо объявляют чем-то «античеловеческим». Причём такое положение дел прогрессирует, и в 21 веке всё убыстряющимся темпом. Как верно замечено современным наблюдателем: «Умственная слепота отнюдь не только удел нашего времени. Но его исключительность в открытом презрении к истине»365. И в дополнение-подтверждение, еще одна совсем «свежая» оценка: «Мы с вами живём в странном мире, в котором не существует правды. Она уничтожена «как класс»», и далее: «уровень просвещения на всех этажах общества достиг дна»366. Но что же тогда происходит с образованием (системой образования общества) в наше время? Ведь если мысль Гегеля и Хайдеггера «выражает истину», то образование сегодня лишено основания. Наука педагогика, однако, не устает рассказывать об успехах и внедрять все более «передовые технологии». Статистика показывает цифры роста числа «образованных людей». Образование в современном обществе давно стало «всеобщим». Сейчас в разгаре следующий этап, когда все большее число людей получает второе и третье «образования», а в перспективе образование обещает стать «непрерывным» и, наверное, даже обязательным в течение всей жизни.
И все-таки, несмотря на эти «достижения» либерально-казённый оптимизм бодро о них рапортующий, все с меньшим успехом справляется с «ретушированием» реального состояния современного образования. Сегодня слишком хорошо известно, что вопиющая неграмотность, невежество, которое даже не осознается, становится если и не правилом, то обыденностью для огромного числа выпускников, не только школ, но и ВУЗов. Не для доказательства, ибо «имеющий глаза, да видит», а в качестве иллюстрации приведем несколько весьма красноречивых свидетельств на этот счет. П. Бьюкенен, известный американский политический и общественный деятель, пишет, ссылаясь на американский опыт: «Начальное и среднее образование в США представляет собой злую пародию на образование. Результаты тестов ухудшаются на протяжении десятилетий… В наших университетах уровень невежества поистине скандальный, студенты ничего не знают об истории страны, а большинство специалистов в точных науках приезжает к нам из-за рубежа»367. Причём, заметим, не в качестве комментария, таковые, в данном случае, что называется, излишни, а в качестве концептуально значимого для темы «идеология и образования» уточнения, – специалисты прибывают не просто из-за рубежа, но почти поголовно именно из не-либеральных стран Востока: Китая, Кореи, Японии, Индии и, конечно, из бывшего СССР.
А вот и свидетельство эксперта, советского и российского академика, математика В. И. Арнольда: «80% процентов современных учителей математики в Америке понятия не имеют о дробях, не могут сложить половину с третью, а среди учёников таких 95%»368. Арнольд, а он, повторим, эксперт высшего уровня, говорит и о неизбежных социальных и политических последствиях такой «образованности»: «Тот, кто в школе не научился искусству доказательства не способен отличить правильного рассуждения от неправильного. Такими людьми легко манипулировать», и далее, о пресловутой компьютеризации: «компьютерная революция позволяет заменить образованных рабов невежественными»369. Говорит Арнольд и о том, чем обусловлена на его взгляд, такая вопиющая деградация американской системы образования, её все возрастающая «практико-ориентированность»370. Он видит источник этого, прежде всего, в идеологии, в «расовой и политической» окраске, важнейших проблем образования, отмечая, что из-за «политкорректности»: «американцы вынуждены отвергать Евклида, математику и геометрию, которые заменяются знанием того, на какую кнопку надо нажимать… Вместо размышлений, механическое действие, что выдается за борьбу с расизмом!»371 Указав на значительную идеологизированность системы образования современных обществ даже в такой, казалось бы, бесконечно далёкой от всякой идеологии сфере, как преподавание математики, В. И. Арнольд отмечает также «тенденцию подавления науки и научного образования обществом и правительствами большинства стран мира»372. Это последнее суждение может показаться излишне резким, но так это или нет, является фактом, что одна из характерных черт современного общества заключается в том, что его система образования является государственной системой образования373, и что принципиально важно, носит, по существу, принудительный характер. Это обстоятельство, как правило, не попадает в поле зрения ни ученых педагогов, ни правоведов и политологов, не говоря уже о представителях других социальных наук. А между тем, это несомненный и весьма показательный эмпирический факт. Ведь сегодня родители не имеют права не «отдавать» ребенка в школу, если попытаются, то «государство» его просто заберет у них и передаст либо в другую семью, либо в государственное образовательное учреждение. Причем такая политика характерна, прежде всего, для самых либеральных государств. И дело, конечно, не просто в посещении школы, а в необходимости усвоения содержания образовательных программ определяемого государством. Как верно пишет П. Фейерабенд: «В то время как родители шестилетнего малыша могут решать воспитывать ли из него протестанта, католика или атеиста, они не обладают такой свободой в отношении науки, физика, астрономия, история должны изучаться»374. Это «смешение государства и науки» в либеральном обществе», отмечает далее Фейрабенд, приводит к тому парадоксу, что, несмотря на то, что «либеральные интеллектуалы выступают за демократию и свободу», религию они «не принимают в качестве основ воспитания, финансируемого обществом. Эту нетерпимость либерализма почти никто не замечает»375. Эти слова были сказаны более сорока лет назад, с тех пор прогресс ушел далеко «вперед» и нетерпимость, о которой говорил Фейерабенд, распространяется уже не только на школы, но и на «детские сады». В «порядок дня», ставится «задача» обязательного посещения детских дошкольных учреждений детьми с трех лет. Во Франции – родине «руссоизма» уже идет речь о принятии соответствующего закона, комментируя который президент Макрон сказал: «Мы добьемся того, чтобы было настоящее равенство» (эфир «Евроньюс» 28.03.2018).
В чем заключается либеральное понимание «настоящего равенства» и как либеральное государство добивается его сегодня хорошо известно, в частности, по принятым в странах Запада обязательным программам «сексуального просвещения» и воспитания «гендерного равенства» в школах и дошкольных учреждениях. В качестве наиболее ярких примеров можно вспомнить и «просвещение младенцев» в детсадах Швеции, когда 3-х – 5-ти летних детей очень педагогично, в «игровой форме», посвящают в детали отношений между полами и отучают от употребления слов «мальчик» и «девочка» и «мама» и «папа», или, получивший скандальную «славу» закон Обамы об обязательном «обобществлении» туалетов в американских школах. Стоит сказать и о повсеместно внедряемой, несмотря на протесты общественности, «ювенальной юстиции», которая, фактически, может провоцировать доносительство детей на родителей и, по сути, предоставляет государственным органам опеки, практически неограниченные возможности для вмешательства в частную жизнь.
Всё это показывает, что либеральные политики, на деле, далеко не всегда следуют «воле народа», а руководствуются, зачастую, идеологическими приоритетами и, продолжают «просвещать» народ, «освобождать» его от «устаревших стереотипов», не останавливаясь даже перед попранием здравого смысла и, действительно, естественных законов, не говоря уже о нарушении фундаментальных заповедей христианской морали, – теперь уже и о почитании родителей. Эти идеологические приоритеты оказываются важнее даже, чем дорогие сердцу человека, естественные для него, понятия «отец» и «мать». Их «отменяют», поскольку, они тоже мешают «добиваться настоящего равенства». Подобное «просвещение» и «освобождение» имеет, очевидно, столь большое идеологическое значение, что либеральные деятели много говорящие против государственного «вмешательства» в экономику, в сферу культуры, почему-то не обращают внимания на все более возрастающее государственное вмешательство в сферу образования. Мы же отметим, что сам факт этого вмешательства, объективно свидетельствует о теснейшей взаимосвязи образования и идеологии в рамках современного государственного устройства. Анализ этой взаимосвязи предполагает, очевидно, рассмотрение различных её форм и, конечно, нахождение четкого ответа на два взаимосвязанных вопроса, – что есть образование как таковое? И какую функцию выполняет система образования в обществе?
Если говорить об образовании вообще, то по своему понятию оно есть не «совокупность знаний, умений и навыков, полученных в результате обучения», как принято считать в педагогической науке, а, как показывает язык, – обретение образа. Именно это составляет содержание и цель процесса образования, овладение же «знаниями, умениями и навыками» есть не более чем его средство. Образование – продукт культуры во всей ее целостности и способ ее сохранения, распространения и развития. Оно, поэтому, требует усвоения не только системы знаний, но и, причем в первую очередь, системы ценностей, и, соответственно, некоторых «метафизических» предпосылок или, если угодно, верований. Образование индивида – это построение определенной «картины мира» в его сознании, способ его вхождения в мир, подключения к традиции и включения в культуру, в определенный социальный порядок.
Различные культуры, точнее говоря, различные идеологии, представляют различные «картины мира» и по-разному отвечают на вопрос, в чем сущность и предназначение человека? Каков должен быть его образ, идеал на который должен ориентироваться реальный человек в своем образовании? Этот идеальный образ есть духовно-нравственный ориентир личности, задающий направление ее духовной деятельности, в процессе которой и происходит собственно ее образование. Если такие ориентиры отсутствуют, то и образование становится невозможным. Поскольку они, так же как и «картины мира» формируются в рамках идеологии, система образования общества всегда имеет своим основанием его идеологию и выполняет, прежде всего, идеологическую функцию по оправданию, «легитимации» наличного социального порядка. Поскольку последний устанавливается и поддерживается государством, оно необходимо контролирует сферу образования. Сущностная взаимосвязь образования, идеологии и государственного устройства обусловлена, таким образом, их общей функциональной связанностью с существованием социального порядка. В силу этой связанности можно утверждать, что система образования общества в принципе опирается на его систему власти и наоборот. Это подтверждается и тем эмпирическим фактом, что привилегированный, правящий класс всегда был и более образовательным. Даже советская действительность не отменила того обстоятельства, что образование является ресурсом власти, а знание – привилегией, делясь на знание для избранного меньшинства и знание для большинства.
Взаимосвязь образования, идеологии и власти наглядно проявляется в том, что история не знает «просто» школы. Таковой не было, нет и, в принципе, быть не может. Было и есть религиозное образование: католическое, протестантское, православное, мусульманское и т.д. Была советская школа и это точное, отражающее существо дела определение, ибо она была построена советской властью на базе марксистско-ленинской идеологии, в определенных формах и с определенными целями. Специфичный для современной цивилизации тип школы (и образования) называют светским, чтобы подчеркнуть его нерелигиозный характер. Для общественного сознания, сегодня, понятия «светский» и «нерелигиозный», по существу, являются синонимами. Но, согласно правилам логики, отрицательное определение – не определение. Поэтому, квалификация «нерелигиозная» практически оказывается бессодержательной, не отвечающей на ключевой вопрос, – какая? Что значит, например, «нерелигиозное» государство? Оно может быть демократическим, тоталитарным, монархическим, социалистическим и т.п. То же касается и «нерелигиозной = светской» школы. Такая характеристика, вообще говоря, не дает внятного ответа на вопрос, что предлагается взамен «отделенной» религии. На каких ценностях и идеалах, ради каких целей будут воспитываться и обучаться дети в «светской» школе.
Очевидно, что уйти от сколько-нибудь определенного ответа на подобные вопросы не может никакая школа. И современная, конечно, не исключение. Как и всякая другая, она имеет определенную идейную основу и соответствующую систему ценностей. Составляет эту основу идеология либерализма. Поэтому современная школа не вообще «светская», а конкретно, – либерально-демократическая. В ней религия (религиозная идеология) в качестве одухотворяющего начала и источника идеальных образов и целей для системы образования заменена идеологией (светской), причем, идеологией без идеального, а, по большому счету, и без образного.
Об идеологическом характере современной школы хорошо сказал один из крупнейших современных социологов П. Бурдье: «Система школьного образования, особенно через преподавание истории и, в частности, истории литературы, вбивает в головы учеников основы настоящей «светской религии» (подчеркнуто нами – С. Г.), а точнее, фундаментальные предположения в отношении образа себя»376. Такое «вбивание», по Бурдье, не может не осуществляться государством ибо, таким образом, оно создает «символический капитал» своей власти. Последняя, согласно французскому социологу, в значительной степени, состоит в возможности и опирается на способность формировать в сознании граждан определенную картину мира и (категориальную) структуру мышления. В начале исследования содержащего приведенное высказывание, он говорит «об одном из важнейших видов власти государства – власти производить и навязывать (в частности, через школу), категории мышления, которые мы спонтанно применяем по всему, что есть в мире, а также к самому государству»377. Необходимость такого «вида власти» для государства, вообще говоря, вытекает из того, что, как было показано в предыдущих главах настоящей работы, государство необходимо имеет идеальное (идеологическое) основание. Поэтому всякое государство проводит определенную политику в сфере образования. В традиционном, «официально» основывающемся на определенной религии, государстве проведение таковой считалось, как правило, прерогативой соответствующих религиозных организаций. Современное же «светское» государство берет эту прерогативу в свое непосредственное ведение, с тенденцией к ее монополизации. Здесь можно вспомнить веберовское определение государственной власти как монополии на легитимное насилие. Если считать его верным, то из этого прямо следует, что государство, по природе своей, должно обладать монополией не только на применение «насилия», но и на толкование того, что есть «легитимность». На это второе обстоятельство в современной социальной науке обращают, к сожалению, куда меньше внимания, чем на первое, хотя анализ его следствий не менее важен как в теоретическом, так и в практическом отношении.
Поскольку государственная власть «по определению» должна быть легитимной, она должна быть также и концептуальной, и в действительности, во всяком случае, в официальном публичном дискурсе, она всегда и является таковой. Иными словами, именно государственная власть определяет конкретное (применительно к данному социальному порядку = «общественно-политическому устройству») содержание основополагающих понятий: Справедливость, Истина, Добро, Зло, Родина и т.п., и тем самым обеспечивает собственную легитимность. Попросту говоря, именно власть решает, «что такое хорошо» и, «что такое плохо», и учит этому в школе. Поэтому, не случайно образование в современном государстве объявлено всеобщим и обязательным, то есть, собственно говоря, принудительным. Эта фактическая принудительность практически подтверждает сущностную взаимосвязь государства, идеологии и образования. Как верно пишет, отмечая «зависимость образовательного процесса от идеологических установок правящих элит», известный российский исследователь А.Г. Дугин: «Образование создает нормативный образ гражданина. От того, в рамках какого государства и какого общества проходят образовательные процессы, зависит и то, какой образ транслируется. Этот «образ» представляет собой эталон общественного субъекта, призванного быть носителем конкретного «мировоззренческого кода»378. Поэтому рассуждения о «деидеологизации» образования есть либо следствие непонимания его природы, либо скрытая форма идеологической борьбы. Школа как таковая не может быть «отделена» от идеологии. Возможна лишь замена одной идеологии на другую.
В силу этого, главная задача любой государственной системы образования не столько в том, чтобы «дать знания» (это именно средство) и, тем более, не в том, чтобы «дать как можно больше знаний», а в том, чтобы социализировать «массы», то есть встроить их в наличный социальный порядок и обеспечить их управляемость. Соответственно, возникает необходимость сформировать в массовом сознании представление об определенном общественно-политическом и экономическом устройстве как о естественном и закономерном, если и не единственно возможном, то, во всяком случае, наилучшем. Необходимым становится привитие «массам» отношения к ценностям и принципам господствующей в данном обществе идеологии как наиболее высшим, достойным, прогрессивным, правильным (разумным, научно-обоснованным) и даже общечеловеческим. Поэтому задача советской школы (системы образования) состояла в воспитании «советского» человека, религиозной, – религиозного, а «либерально-демократической», – «демократического». Это главное, что определяет построение всей системы и, в общем, и во многих частностях. Поэтому в средневековой школе важнейшей целью было воспитание уважения к авторитету, укрепление веры в Бога, в советской, – веры в коммунизм и партию, а в либерально-демократической, – веры в себя, самая легкая, заметим, задача. А преподавание наук от гуманитарных (составляющих, собственно, образование) до естественных, было лишь средством, призванным показать-доказать научную оправданность веры в Бога, в Коммунизм (обязательно с большой буквы), или неверия ни во что, как сегодня.
Поэтому в любой системе образования господствует не факт, а интерпретация, не «объективные знания», которых как показано современной теорией познания не существует, а рассмотрение с определенной «точки зрения», когда одни факты и деятели замалчиваются и/или принижаются, другие возвеличиваются и «приукрашиваются». И это не говоря уже о случаях полной смены «знаков» с «+» на «–» и наоборот, когда одно и тоже лицо выступает то в качестве величайшего деятеля «всех времён и народов», то в виде «изверга рода человеческого». Бесчисленные примеры подобного, причём, вплоть до анекдотических, предоставляет, в частности, так называемая национальная школа во многих, недавно получивших независимость и строящих свою государственность странах. В советской школе, например, курс истории доказывал, что коммунизм – её закономерный результат и «вековая мечта всего прогрессивного человечества»; в современной школе история учит тому, что таковой является демократия. Что касается естествознания, то в религиозной школе, математика, физика, биология, доказывают, что Бог есть, в советской, – что Бога нет, а человека, случайно создала обезьяна, постепенно «миллионы лет» работавшая над собой. В демократической школе, те же науки, а сегодня, к тому же масса всевозможных «передовых» наук – кибернетика, синергетика, культурология, доказывают, что «всё относительно», все зависит от системы отсчёта и т.п. А потому, кому что нравится, – веришь в Бога молодец, хорошо, не веришь, – еще лучше. А как на самом деле, Бог есть или нет, – глупый, даже неприличный вопрос, главное, – ничего никому не навязывать, пусть каждый сам все для себя решает, – вот ключевой принцип образования, и, по совместительству, главная ценность, провозглашаемая восходящей к софистическим учениям либеральной идеологией. Поэтому, любой принцип и «точка зрения», это личное дело. Не бывает истинного и неистинного, красивого и некрасивого, даже доброго и злого, – все относительно, – вот нехитрый символ веры, с которым выходит в жизнь обладатель либерально-демократического «аттестата зрелости» и «высшего образования».



