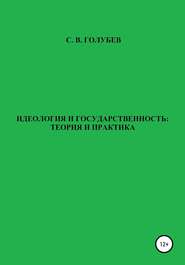 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Важно отметить, что по мере развития социологии, вслед за понятийным различением (и, конечно, и вследствие этого различения) общества и государства стали находить все большее бытийное, реальное разделение между явлениями обозначаемыми этими понятиями. Пребывавшее ранее в качестве искусственного постулата полагание «догосударственного» (= дообщественного) состояния, имеющее фундаментальное значение для построенных на софистических принципах политических учений, получило «эмпирическое подтверждение» в «первобытных обществах», ибо теперь понятия «догосударственное» и «дообщественное» перестали быть синонимами.
В ход пошел вульгаризированный Гегель343, чье понятие гражданского (бюргерского) общества как продукта и составной части государства было «гипостазировано» именно тем направлением (либерализмом, опирающимся на номинализм) которое любит бросаться этим обвинением, и, в качестве реальности, отделено от государства, и противопоставлено ему. Теперь стало возможным и необходимым разделять государственную организацию и организацию общества. Едва ли не на протяжении всей истории и особенно в современности стали обнаруживать непрекращающуюся борьбу интересов этих двух новообразованных «субъектов». А уж «полевые» эмпирические исследования примитивных обществ, развернувшиеся с 19 века, давали, казалось, неограниченные возможности теоретизирования на предмет безгосударственности общества, изначальной, а значит, и сущностной. Было постулировано не только безгосударственное, но даже и безвластное, неполитическое общество, – «первобытный коммунизм» или «эгалитаризм».
Закономерным образом, с середины 19 века начинается расцвет анархизма (Прудон, Штирнер, Бакунин, да и Маркс) получившего наконец-то теоретическую, понятийную базу в социологическом разделении общества и государства, (для чего, впрочем, он (анархизм) и сам хорошо поработал), и «практическое доказательство» в «открываемых» теперь учёными «коммунистических» обществах «начального этапа человеческой истории».
Заслуживает быть упомянутой и политическая экономия, чей отец-основатель А. Смит «апологет буржуазного индивидуализма», развивал учение о «свободном рынке» и о «вреде государственного вмешательства в экономику». С его легкой руки «вмешательство» стало обязательным вместо слова «участие», когда речь идет о государственном присутствии в любой сфере «общественной жизни». Приведем еще замечательные слова, сказанные во вступительной статье к советскому изданию главного труда А. Смита: «Смит разработал теоретическое оружие революционного класса 18 столетия, класса буржуазии (подчеркнуто нами– С.Г.) и программу экономической политики соответствующую интересам буржуазии. Именно поэтому идеи А. Смита получили широчайшее распространение не только в Англии, но и далеко за ее приделами. Они теоретически обосновывали необходимость ликвидации феодальных порядков и играли прогрессивную роль. В.И. Ленин характеризовал (как всегда верно – С.Г.) Смита как «великого идеолога передовой буржуазии»344. Вот и мы думаем, что экономика и наука здесь на втором месте. В первую очередь, – политика, идеология, «оружие».
Такова внешняя история понятия «общество», описание событий в обществоведении, в котором все меньше места остается государствоведению. Так и вспоминается сказанное по другому поводу, но в том же духе, – «чем меньше государства, тем лучше». Заметим, что этот знаменитый лозунг очень напоминает бытовавшее в отечественной (и не только) истории задания-указания в целях определения «направления работы обществоведов» «по реализации политики партии». Что же касается «внутренней», идейной истории понятия «общество», в рассматриваемом нами смысле, то оно есть продукт буржуазного, протестантского сознания, порождение духа капитализма. Предпосылки для формирования идеи «общества» были созданы в эпоху Возрождения и Реформации, когда было произведено отделение религиозного от социально-политического (суверенитет политики Макиавелли) и реализовано, направленное против института официальной (собственно государственной) церкви, учение о религиозной общине как свободном собрании верующих. Последние, согласно протестантизму, именно не нуждались во внешней (иерархической!) организации и вполне автономно постигали Истину своим разумом, и «открывали ее в своем сердце»345.
Идея общества как собрания индивидов, «всех, кто хочет участвовать» (Гоббс), будучи перенесена на сферу социально-политической и экономической жизни, стала важнейшей предпосылкой капитализма как общественного устройства, основанного на частной инициативе и рационалистическом отрицании надындивидуальной нормативности. Зарождающийся капитализм, точнее, получившая религиозную свободу буржуазия, в свою очередь, использовала эту идею в качестве орудия для борьбы за политическую свободу, за власть в обществе, в конечном счете, за изменение его государственного устройства в соответствии со своими ценностными представлениями. Посредством этого орудия задача по такому изменению была сформулирована следующим образом: «государство должно служить обществу».
Впервые этот революционный, в сущности, лозунг, как непосредственная политическая цель, был заявлен в ходе Французской революции. Именно тогда «третье сословие», провозгласив себя Национальным собранием, «официально» приняло понятие «общество» в качестве самоопределения-самоназвания. Психологически буржуа хотели быть «обществом» в подражание «высшему обществу», «свету» Франции Людовиков. Они считали себя «тоже» обществом, а то и «настоящим», в противопоставлении дворянскому. Но дворянство никогда не отделяло себя, как «общество», от «государства», напротив, исторически сложилось как служилое государственное сословие (государством образованное и государствообразующее) и принципиально отождествляло себя с государством. Не только французское, но любое дворянство могло повторить вслед за Людовиком XIV: «Государство, – это мы». Буржуазия же принципиально отделяла себя от государства и несла с собой новый дух, – частной жизни, частного интереса, которому последнее и должно было теперь подчиняться, превратившись в его служителя-охранителя, сторожа.
Выразившееся в указанном самоопределении умонастроение «третьего сословия», его ведущую мировоззренческую установку чётко сформулировал один из его лидеров, аббат Сийес сказавший, что: «Третье сословие должно стать всем». Сегодня можно констатировать, пожалуй, что эта задача решена. В «капиталистическом» или, что то же, либеральном обществе, буржуазия и стала «всем»346, что показывает такой непосредственный участник и, в то же время, объективный свидетель процесса как язык. Слово «burger» сегодня, согласно словарю, имеет такие значения: 1) гражданин; 2) городской житель, горожанин, мещанин; 3) буржуа, бюргер; ист. представитель третьего сословия; 4) обыватель, мещанин; 5) ист. Житель замка, крепости347. Здесь наглядно и четко, «без лишних слов», фиксируется смысл произошедшего («буржуазной революции»), проявляющийся в изменении, точнее, расширении, значения понятия «burger» от жителя замка-крепости, до буржуа, горожанина, а затем и до гражданина, вообще, – как такового.
Отметим еще, что духовное содержание идеи-понятия «общество» раскрывает русское слово «мещанство», – этимологически точный аналог слов «буржуазия» и «бюргерство». Мещанство, как и буржуазность, – это не только и не столько сословие, сколько «состояние души», определенное мировосприятие и система ценностей, и тем самым, определенная идеология. Духовным основанием мещанства является, как сказал бы Гегель, стремление особенности реализовать себя именно в качестве особенности (выражаясь современным языком, – индивидуалистическая установка сознания). Это стремление и осуществляется в гражданском бюргерском обществе «предоставляющем каждой особенности ее право». То, что, в известной мере, оно свойственно человеку как таковому и составляет жизненную силу буржуазно-либерального общества, почему, социалистическое государство и боролось с мещанством, третируя его морально и идеологически.
Поскольку особенность утрачивает связи с всеобщим и провозглашает себя, именно как особенность, мерой всех вещей, она теряет свою меру и порождает «индивидуализм»348. Мещанство, как проявление последнего, начинает духовно преобладать в общественной жизни тогда, когда возникает ощущение, что «Бога нет». Социально мещанство проявляется в обесценении и утрате социальных связей особенно непрагматически ориентированных и естественно складывающихся. В пределе даже в потере связи между родителями и детьми, как в современных США, и между супругами, когда на смену семье приходит своего рода «contract social» в миниатюре (брачный контракт) – не более чем простейшая «ячейка» для взаимообмена услугами и накопления собственности, которая, впрочем, у современных супругов нередко бывает раздельной.
Резюмируя можно, таким образом, заключить, что по своему внутреннему духовному содержанию, идеологически понятие «общество» – это мещанское, буржуазное, капиталистическое, либеральное, «западное» (все это, в данном случае, – синонимы) понятие. То же касается и духовного содержания социологии, которая есть именно либеральная наука, своего рода «теория научного либерализма»349. Как говорит Карсавин «Социология является характерным продуктом европейского рационалистически-индивидуалистического развития»350. Весьма показательно в этом отношении то, что расцвела социология не где-нибудь, а в США, а с другой стороны, то, что на Востоке она и сегодня еще «импортный товар».
Между прочим, европоцентристская установка мешает заметить, что разделение государства и общества есть уникальная особенность современной западной цивилизации. Ни одна другая культура такого разделения не знала и не знает. И у греков с их полисом, и в Средневековье, и в Китае, и в Индии с ее кастами, и в мусульманском мире социальное и политическое неразделимы. Всегда наличествует сущностное единство, взаимопереход социального и политического, и, обязательно, религиозного. Мусульманская умма это и религиозная, и политическая, и социальная организация, индийские касты имеют религиозное основание. Для китайцев, конфуцианство это, прежде всего, религиозное и потому социально-политическое учение. Средневековое социально-политическое устройство также строилось на религиозных основаниях, а античный полис был и религиозной общностью, что заставляющие императорский Рим включать в свой пантеон божества присоединенных территорий. И в буддийских обществах, невыраженность политической структуры предопределена особенностями религиозного учения.
Собственно все западные исследователи взаимоотношений «государства и общества», «государства и религии», которые, согласно их credo, должны существовать в обществе «по определению», обнаруживают в незападных обществах нерасчлененность этих взаимоотношений, но оценивают этот факт, естественным для них «объективным» методом (сравнением с европейским в качестве эталонного), как показатель социальной неразвитости.
Переходя к специальному анализу понятия «государство» заметим, прежде всего, что приведенная выше знаменитая либеральная максима о том, что «государство должно служить обществу» возведена сегодня в ранг непререкаемой истины, а между тем, она основана на недоразумении и представляет собой типичный пример поставления с «ног на голову». Ибо государство, по определению, «служит» обществу и именно тем, что подчиняет (то есть организует, устраивает, упорядочивает) его. Выше, в другом контексте, государство было определено как форма общества. Проведем теперь понятийно-аналитическое обоснование этого определения.
Аналитическая разработка понятия государства предполагает в качестве своего исходного пункта построение смыслового ряда, понятийного порядка, единицей, элементом которого оно является. Этот понятийно-предметный ряд, полагающий порядок мысли, должен отражать необходимые сущностные связи между понятиями, а не конструироваться на произвольном основании. Общее содержание, смысл (то есть принадлежность к более сложному концептуальному целому) определяемого понятия, формирующие его взаимосвязи исходно устанавливаются нахождением рядоположенных понятий, которые, именно в силу рядоположенности и полагают границы, ограничивают, определяют данное понятие, фиксируя посредством взаимосоотнесения, необходимо присущее ему, вследствие смысловой сопряженности с ними, содержание.
Говоря о государстве, отметим, что такие понятия как: «правительство», «аппарат принуждения», «налоги», «класс» и т.п., принадлежат к иному понятийному ряду, – в соотнесении с понятием «государство», – к его внутреннему кругу, представляя собой формы дальнейшей конкретизации его содержания, описания составляющих, а не рядоположенных элементов и связей, и поэтому не могут служить для получения общего определения государства. Не подходит для этого и понятие «политика», ибо, вообще говоря, его смысловой ряд (понятийный порядок) другой, – мораль, право, культура, экономика. Именно во взаимосоотнесении с этими понятиями исходного определяется, ограничивается, проясняется смысловое содержание политики, что проявляется в простом взаимопологании понятийных пар: политика и мораль, политика и экономика, политика и культура и т.д. Уже в этом сопоставлении неслучайно, конечно же, закрепившемся в языке очевидна смысловая рядоположенность данных понятий, их принадлежность к одному понятийному ряду. Поэтому словосочетания «политика и экономика» или «политика и мораль» и являются осмысленными. Более того, по сути, в них формулируется, определяется некое проблемное поле мысли, устанавливается понятийный порядок ее движения.
Попытки же определить понятие «государство» через понятие «политика» не только мало что проясняют, но и уводят мысль в сторону от сути дела. И не только потому, что понятие «политика» само по себе трудноопределимо и его сопряжение с понятием «государство» не способно привести к взаимопрояснению их смыслов, но, прежде всего потому, что существует не только государственная политика, но и политика партии, церкви, того или иного лидера, политика НАТО, ООН и т.п. С точки зрения субъекта, политика, и как деятельность, и как отношение, присуща не только государству, и потому, как понятие, сочетается, и с церковью, и с партией, профсоюзом, вообще говоря, с любым субъектом. Определение государства через политику, которая, очевидно, является деятельностью или отношением субъектов, имманентно содержит полагание государства в качестве субъекта, рядоположенного с другими политическими субъектами, а значит, проводящего свою политику в некой системе, включающей других субъектов, проводящих свою. Государство, таким образом, превращается в нечто субъективное, в одного из игроков на политическом поле, имеющего на нем свое место и функции (играющего свою роль) и преследующего свои, «субъективные» цели-интересы351.
Именно неявное постулирование такого представления (тогда как государство есть само это «поле») объективно содержащееся в определении государства через политику, делает любую попытку подобного рода заведомо не продуктивной. Это не значит, конечно, что понятия государства и политики не связаны самым теснейшим образом, дело в том, что способ их связи скорее взаимопересечение чем рядоположенность. Поэтому эти понятия пригодны не столько для общего определения, сколько для дальнейшей конкретизации друг друга.
Непродуктивным и поверхностным оказывается соответственно и определение государства как политического института. Вообще говоря, плохо уже то, что данное понятие образовано посредством сложения неясного с неясным. А в частности, институт, как и политика, понятие из другого, чем государство смыслового ряда. Его круг трудно определить, но, поскольку, институт – это собственно социальный институт, то он соотносится с понятиями: социальная система, социальная организация, то есть, его ряд это: институт, система, организация. Соответственно, – институт это единица (социальной) системы, форма её организации, то что структурирует упорядочивает ее элементы (каковыми можно считать индивидов, их деятельностные акты).
Этот новосозданный понятийный ряд, заметим, – находка для социологии и политологии (он, собственно, и составляет их терминологическое основание), ибо система, организация, институт, – весьма абстрактные и наукообразные понятия, что, с одной стороны, отвечает претензиям «молодых» наук на научность, а с другой, обеспечивает им практически неограниченные возможности для самостоятельного проблемо- и терминотворчества. Однако, именно в силу абстрактности этих понятий, получить их посредством конкретно-определенное понятие государства нельзя. Определение государства как политического (или социального в широком смысле) института не только ничего не проясняет, но и встраивает его в неадекватный понятийный ряд. Ибо партия, парламент, выборы, – это тоже политические институты.
Государство, соответственно, опять оказывается одним из политических институтов, причем, даже более номинальным в ряду других, состоящим из других, более «первичных», реальных политических институтов. Положение не изменяет и указание на специфику государства как политического института. Ясно, что каждый политический институт имеет свою специфику, но сущность, согласно родовому признаку определения, одинакова у всех институтов, а значит, государство становится неотличимым, в сущности своей, от политической партии, например, или правительства, парламента. Возможность подобного представления, надо сказать, далеко не абстрактна. Именно оно лежит в основании тех теорий, которые объявляют сущностью государства частно-партийную «классовую» организацию, «аппарат» или «собрание народных представителей», «переворачивая», тем самым, действительное онтологическое и логическое соотношение явлений и понятий «государство» и «класс», «партия», «правительство». Таким образом, оперирование понятиями «политика» и «институт» при определении государства, создает лишь видимость движения мысли и видимость определения. Посредством этих понятий можно, наверное, охарактеризовать какие-то аспекты, стороны государства в каком-то отношении, но нельзя понять его сущность.
Адекватный понятийный порядок для получения исходного, общего определения государства, выстраивается посредством соположения понятий, – государство, общество, власть. Они объективно рядоположены и поэтому находятся в отношении взаимоопределения-взаимопрояснения, что также подтверждается фиксируемой в устойчивых словосочетаниях языка (и языка социальной теории, в том числе) «парности» данных понятий: «государство и общество», «общество и власть». Заметим, что, в том числе и, «пересечением» понятийных рядов «общество, власть, государство» и «политика, мораль, право, экономика, культура», осуществляется дальнейшая конкретизация составляющих их понятий. В круге рядоположенных понятий получаем исходное, наиболее абстрактное определение государства как (формы организации)352 власти в обществе в целом. Это понятийно-аналитическое определение, как можно видеть, принципиально соответствует развиваемому в настоящей работе пониманию государственности и полученным ранее определениям государства, что еще раз (и посредством еще одного метода) подтверждает обоснованность понимания государства как формы353 (властной организации) общества. Но поскольку это так выявляется необоснованность разделения и противопоставления государства и общества. Ибо такое противопоставление равносильно противопоставлению формы и содержания вообще. То же относится и к разделению и противопоставлению общества и индивида (личности). В принципе, эти противопоставления, оппозиции, являются именно ненаучными (за исключением, конечно, случаев связанных с определенными контекстами, которые должны специально оговариваться) и в концептуальном плане опираются на основополагающие постулаты софистических учений, а в идеологическом служат либерализму.
Поскольку исходные понятия социального познания связываются посредством бинарной оппозиции: индивид/общество, общество/государство, постольку идеологическое содержание встраивается в саму структуру мышления. Соответственно последнее, в качестве познающего, формально-методически (априорно) ориентируется скорее на различие-разделение, чем на единство, на усмотрение противоположностей и «выявление» противоречий. К тому же, левый член оппозиции оказывается «первичнее», ценнее, важнее354.
Упрочению разделения и противопоставления «индивида», «общества» и «государства» – служит и понятие «интерес», точнее постулирование «различия интересов» индивида, общества и государства, являющееся одной из важнейших догм либеральной науки. С помощью этого понятия, то, что, мягко говоря, отнюдь не очевидно, представляется, тем не менее, в качестве такового и мысль направляется на поиск различий, само существования которых не из чего не вытекает, и никак не доказывается, но уже не может быть поставлено под сомнение. Иными словами, мышлением, которое оперирует понятием «интерес» в применении не только к индивиду, но и к обществу и государству, вопрос о правомерности разделения «интересов», этих «субъектов» даже не ставится. Такое мышление, заведомо сориентировано на поиск различия этих «интересов» и, конечно, «изучение» «проблемы» их конфликта355.
Неадекватность подобного подхода становится очевидной, как только понятие «интерес» получает объективное и более или менее четкое определение356. Дело в том, что интерес как таковой имеет своим основанием потребность. Но потребность, если употребление этого понятия объективно осмысленно, есть состояние организма. Только организм, живое существо, может иметь потребности. Соответственно, ни общество, ни государство их иметь не могут, а значит, не могут иметь и интересов. Как справедливо пишет К. Х. Момджян, – автор глубоко и системно разработанной концепции потребностей и интересов: «Представить себе общественное объединение людей, обладающее собственными потребностями, интересами и целями, отличными от интересов образующих их людей – задача, скорее, научной фантастики, чем трезвого философско-социологического анализа357». Действительно, интерес, как таковой, может быть только у субъекта. Субъект – это организм – живое существо, обладающее разумом и волей, и способное с их помощью определять и реализовывать свои интересы. Ни общество, ни государство не являются организмами, не ощущают, и не имеют потребностей, разума и воли, и не осуществляют никакой деятельности. Потребляет, мыслит и действует только человек «способность к целенаправленной деятельности дарована только людям и никому другому»358. Поэтому только он имеет интересы и является субъектом. Ни государство, ни общество, следовательно, не обладают субъектностью.
Все это, очевидно, неоспоримые положения. Однако рассуждения о «конфликте интересов личности и общества», «общества и государства», о том, что «государство должно служить обществу и человеку» и им подобные, весьма широко представлены в либеральном дискурсе, и претендуют, отнюдь не «научно-фантастический» статус. Наиболее вероятное объяснение этому удивительному факту дает, думается, известное суждение одного из крупнейших идеологов 20 века, – В.И. Ленина, сказавшего как-то (наверное, на основании интроспекции), что если бы аксиомы геометрии задевали чьи-либо интересы, их бы тоже оспаривали. Как бы там ни было, объективный анализ базовых понятий социальной науки показывает, что разделение и противопоставление государства и общества, различение интересов индивида, общества и государства имеет идеологическое основание и закрывает путь к адекватному познанию социальной реальности.
Действительная, а не провозглашаемая в идеологических целях деидеологизация социальной науки, предполагает не замену «научного коммунизма» на научную «социологию-политологию-конфликтологию», а, прежде всего, логическую разработку нового понятийного аппарата и признание объективно неустранимого характера ценностной составляющей социального познания. Основное направление этой разработки было намечено А.А. Зиновьевым в его «Логической социологии». Он, рассмотрев все логические возможные варианты, пришел к выводу, что описание общества надо начинать со «сферы государственности» и, что «Определение прочих сфер как специфичных для общества предполагает государство и не может быть логически корректно определено без ссылки на него»359. И еще одно принципиальное утверждение, имеющее не только логическое, но и онтологическое значение: «Государство есть управляющий орган общества как единого целого. Причем дело обстоит не так будто сначала возникает общество и затем в нем формируется государство. Государство формируется как орган формирующегося общества, а общество формируется как человейник с таким управляющим органом, каким является государство. Это единый процесс»360.



