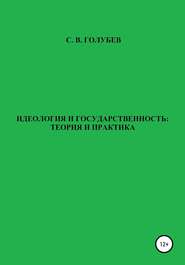 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Заметим здесь, что подобное положение дел, а именно, отсутствие у индивида определённой системы мировоззренческих координат, их «эластичность», объективно облегчает манипулирование им. Поскольку образование, вообще говоря, способствует формированию определённого взгляда (= прояснению взгляда) на мир – мировоззрения, постольку акцентуация «относительности», «радикального сомнения», пресловутой «критичности»379 в процессе образования, объективно приведёт к помещению индивида в ситуацию неопределённости-неустойчивости бытия-мира, со всеми вытекающими из этого последствиями для его деятельности, в особенности, – политической.
Ярким показателем идеологического характера современной школы является фактический запрет раздельного обучения полов. Такое обучение было, как известно, одним из фундаментальных принципов построения системы образования во всех без исключения традиционных культурах. Его обоснованность подтверждается не только историческим опытом, но и данными современной науки, в частности, физиологии и психологии.
Впрочем, и опыт современной школы в нелиберальных странах, например, в Южной Корее, где принято раздельное обучение, подтверждает его эффективность. Неслучайно, представители этой страны в последние десятилетия постоянно занимают первые места на международных олимпиадах среди школьников по математике и естественным наукам. Интересно, что представители либеральной, «передовой», «неавторитарной», «игровой» и т.п. педагогики, насколько известно, не торопятся в Корею «за опытом», не изучают его и даже не «критикуют», а просто замалчивают, вполне в духе либеральной «науки», просто игнорирующей «неудобные» факты. У либеральной школы, приходится заключить, другие приоритеты. Она, видимо, «озабочена» не столько математикой или химией, которые ведь могут и «не пригодиться в жизни», сколько преодолением (окончательным) «расовой сегрегации» и «гендерного неравенства», а в последнее время, ещё и внедрением «инклюзии», то есть продолжает бескомпромиссно «добиваться настоящего равенства». Какое, в таком случае, может быть раздельное обучение? Ведь это же было бы «огромным шагом назад».
Показательно, что эффективность совместного обучения не просто никак не доказывается, сама постановка вопроса об этом оказывается заведомо неправомерной, ибо оно относится не к средствам, а к целям. Совместное обучение – есть именно один из важнейших принципов (целей) современного (в противопоставлении традиционному) образования. Поэтому чтобы ни «говорили» «наука и практика», как бы не деградировало сегодня образование или «моральные устои» «подрастающего поколения», в современном обществе возможно только совместное обучение мальчиков и девочек. Иного не надо. Иное – противоречит принципам либеральной идеологии, поэтому вопрос закрыт и не подлежит не то что практической проверке, но даже теоретическому обсуждению. Показательна и история с формой. В традиционном обществе определенная форма одежды была обязательна как для учеников, так и для студентов. Современной же, либерально-демократической школе – форма противопоказана. Напротив, если прямо и не навязывается, то «приветствуется» именно свободный стиль одежды, как для учеников, так и для студентов и преподавателей. И здесь, не только исторический опыт, но и обычный здравый смысл подсказывает, что форма, в силу целого ряда причин, показана школе по определению. Однако, опять же – «противоречит принципам». И сегодня школьница, да и учительница (не говоря уже о студентке) в радикальном «мини», если и не правило, то и не исключение.
Так в современном образовании обстоит дело в, казалось бы, наиболее далеких от идеологии областях. Что уж говорить о предметах тесно с ней связанных, о содержании обществоведческих, гуманитарных дисциплин, тут непроглядный «воинствующий» либерализм380. Безальтернативно господствует он и в собственно «педагогической науке» исходящей сегодня из постулатов Просвещения381 и озабоченной, прежде всего, «развитием способности» к «самостоятельному мышлению» и воспитанием «свободной личности». Ведущий арьергардные бои на «педагогическом фронте» здравый смысл, обличен в качестве «авторитарной» педагогики и сдает одну позицию за другой, с тенденцией превращения (в глазах современных ученых-педагогов) в свою противоположность.
Характерна и ведущая тенденция современной педагогики ко все более широкому внедрению в «образовательный процесс» обязательных «образовательных стандартов» и разного рода «технологий». Идеологическое значение этого «внедрения», очевидно, не единственная его причина и может быть не лежит на поверхности, но от этого не перестает быть существенно важным. И дело не только в принципиальной несочетаемости «стандартов и технологий» с развитием духовности и человеческой индивидуальности; очевидном вреде тестов, для развития мышления и речи школьников, и т.п., о чем сегодня много говорят. Стандартизация учебного процесса, непосредственно, в соответствии с понятием, ведет к элиминации личности преподавателя. Здесь надо отметить, что фигура университетского профессора, преподавателя, особенно «обществоведа-гуманитария», как тип (или, если угодно, преподавательское сообщество высшей школы, как сословие), неудобна для идеологической монополии государственной власти, объективно является препятствием для неё. И по вполне понятным причинам: опытный университетский преподаватель, во-первых, как правило, человек способный действительно «самостоятельно мыслить» и, во-вторых, он обладает «трибуной», – легальной возможностью для систематической публичной и достаточно широкой трансляции (студенческая аудитория и коллеги) своей мировоззренческой позиции (= идеологии). Соответственно, если в обществе, прямо или косвенно навязывается какая-то одна определенная идеология, в особенности, если это делается с широким применением манипулятивных технологий, – преподаватель, как таковой, становится помехой. Этим, в частности и объясняется, внедрение компьютеризации и таких «инноваций» как дистанционное обучение и т.п.
В этой связи, нельзя не вспомнить отмену «Социалистической революцией» философии и истории и замену их «политграмотой». Либерализм, как уже отмечалось, отличается от социализма, не целями, а темпами и методами. Его «политграмота» выглядит, конечно, респектабельнее «большевистской». И методы у него другие. Один из них – «растворение», когда расширение «доступности» высшего образования приводит к значительному росту числа ВУЗов и, соответственно, к увеличению количества преподавателей, что, объективно, не может не вести к понижению качественного уровня последних, в общем, как сословия. Бурный количественный рост неизбежно приводит также и к феминизации преподавательского корпуса со всеми её достаточно очевидными последствиями. Всё это, опять же, объективно, подготавливает почву для внедрения «стандартов и технологий», а оно, в свою очередь, помимо того, что способствует дальнейшему понижению качества преподавания, становится еще и сильнейшим контролирующим, и оказывающим давление на личность преподавателя фактором. Таким образом, не «большевистскими темпами», а постепенно устраняются помехи для манипулирования сознанием «масс». В этом, собственно, и заключается политическое и идеологическое значение «передовых педагогических технологий».
Стоит заметить, что анализ взаимосвязи образования и идеологии в аспекте различия образовательных систем, позволяет установить корреляцию между типами организации власти по М. Веберу и различными системами образования. Так традиционному типу власти соответствует традиционная (религиозная) школа. Современному рациональному типу – либеральная, в познавательном отношении построенная на декартовском калькулирующем рационализме и «дополняющем» его эмпиризме Бэкона382. Советская же школа может быть названа харизматической. Не случайно советские дети с самых малых лет учились – воспитывались на «рассказах о Ленине», вообще о героических личностях: Спартаке, Павке Корчагине, Александре Матросове, Юрии Гагарине. В принципе харизматической по типу является, очевидно, система образования любого «тоталитарного» режима, поскольку последний не только, как принято считать, антилиберален, «по определению», но и антитрадиционен в сущности своей383, и в лучшем случае, не- (если не «анти») религиозен. Всякий тоталитаризм также, как показывает историческая практика, апеллирует к харизме вождя384, будь то вождь «мирового пролетариата», «Революции» или, «Нации», или по совместительству, и то, и другое, и третье, как скажем – Мао Цзэдун в Китае.
Главное, в чем тоталитарная (харизматическая) школа схожа с либеральной, это ее, в большей или меньшей степени, «светский» характер. Выше уже отмечалась антирелигиозная и либеральная направленность «светскости» современного образования. Полезным также представляется четкое осознание того что «отделение» школы от религии – это не истина «практического разума», а, по сути своей, идеологический и революционный принцип. В качестве последнего он требует построения новой школы, тем самым объективно порывая с традицией и отрезая народ от корней его собственной культуры. Будучи идеологическим, он, в силу этого, во-первых – адекватен только одностороннему, идеологизированному и, вообще говоря, искаженному сознанию, а во-вторых, обладает весьма расплывчатым содержанием, что позволяет толковать его исходя из меняющейся политической целесообразности и, в частности, наполнять ценностями не только либеральной, но и любой другой, в том числе, тоталитарной идеологии.
Если говорить о практических соображениях, то трактовка «светского» как «нерелигиозного» неизбежно приводит к вопросу, – а может ли в светском, нерелигиозном государстве педагог быть верующим? А государственный служащий, врач, ученый, работник СМИ? И как многие помнят последовательно «нерелигиозный» советский режим на все эти вопросы давал отрицательный ответ. Сегодня подобная ситуация представляется неправомерной и почти абсурдной. В действительно светском государстве каждый гражданин вправе сам определять свое отношение к религии. Из этого следует не только то, что учитель или врач могут быть верующими, но и то, что чтение священником факультативного религиозного курса в школе не в большей степени противоречит ее светскости, чем работа монахинь в качестве сестер-милосердия в государственной клинике, светскости последней. Действительный синоним понятия «светский», – понятие «мирской». И обычной, пока ещё, практикой всех цивилизованных светских государств является широкое участие религиозных организаций в общественной, «мирской» жизни. Во многих странах, у нас в том числе, служители культа помогают работе таких сугубо государственных институтов как армия, пенитенциарная система. И это соответствует природе вещей, – священнослужитель может и должен помогать обществу – «миру», – облегчить участь больного, наставить отступившегося, укрепить дух солдата. Может и должен он помогать обществу и в воспитании его подрастающего поколения. И исполнение им этого своего долга «в миру» никак не может «умалить» светскости этого мира, даже если и сделает его более религиозным. Безусловно, верна, поэтому позиция, согласно которой «нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач»385.
Что касается задач образования, то очевидно, что ответы на вопросы: в чём предназначение человека, каким должен быть его идеальный образ, по самой своей природе могут быть даны только верой и есть её собственное дело, ибо нельзя доказать человеку, для чего и «с кого» он должен «делать жизнь». В этом отношении показателен тот исторический факт, что во всех культурах система образования изначально конституировалась как система религиозного образования. Начиная с обрядов инициации в примитивных обществах и заканчивая средневековыми университетами в Западной Европе, монастырскими школами на Руси, и медресе на Востоке, образование как социальный институт было подсистемой религиозной сферы жизни общества. Показательно, что во всех древнейших культурных традициях письменность связана с сакральным или имеет непосредственно сакральный характер, по меньшей мере, выступает в качестве средства сохранения и трансляции священных знаний386. Другими словами имеется прямая генетическая связь между религией общества и его системой образования. Из этого, следуя принципу – сущность раскрывается в происхождении, можно заключить, что безрелигиозное, «отделённое от церкви», деидеологизированное образование невозможно в соответствии с понятием.
Завершая анализ взаимосвязи идеологии и образования, можно констатировать, что основная тенденция развития системы образования современного общества, в самом общем виде, может быть обозначена как переход от религиозной (церковной) школы к идеологической (партийно-государственной). Явным образом он начался с эпохи Просвещения и сейчас завершается «в основном», эволюционируя в соответствии с секуляризацией (и являясь её важнейшей составляющей) общественной жизни в целом. «Окончательное» завершение этого перехода может означать окончательное и необратимое превращение современной системы образования из средства воспитания личности в средство манипуляции сознанием масс.
Глава V. Либерализм и современная цивилизация
§1. Либерализм как цивилизационный феномен
В заглавии, предпосланном этой части работы, соединены три часто встречающихся в современном языке понятия. Каждое из них хорошо известно, представляется достаточно ясным и употребляется, и здесь, и там. Служит средством высказывания, передачи информации и для обыденного сознания, и для общественно-политического словаря, и для научной речи. А между тем, действительно чёткого и общезначимого понимания (не говоря уже об определении) этих понятий на сегодняшний день нет ни в общественно-политическом «дискурсе», ни в науке. И это, вообще говоря, неудивительно, скорее, напротив, – закономерно. Отсутствие ясного общепринятого понимания (определения) используемых понятий вполне отвечает либеральному духу современной цивилизации. То, что последняя вдохновляется именно этим духом, что и составляет её характерную особенность, надо полагать, вполне очевидно. Впрочем, об этом и сказано было немало самыми разными исследователями.
Можно утверждать, таким образом, что эти три понятия связаны сущностно, закономерной связью. Они взаимопорождают, взаимоподдерживают и взаимодополняют свои смыслы, и взаимопроясняют, конечно. Прояснение-определение смыслов каждого из них предполагает, соответственно, раскрытие их сущностной взаимосвязи. Эта последняя обусловлена тем, что все три понятия суть понятия либеральные. Более того, где-то на «метафизических глубинах» смысла можно обнаружить их слияние, то, что они обозначают, что-то одно. То, что либерализм есть ведущая современная идеология или идеология современной цивилизации, пожалуй, общепризнанно. С тем же, что понятия «современность» и «цивилизация»-«цивилизованность» являются продуктом конструктивистских усилий либеральной мысли, согласятся, наверное, далеко не все. А между тем увидеть это, при условии освобождения от идеологических шор, нетрудно. Нетрудно, даже в отношении понятия «цивилизация», которое, на первый взгляд, представляется весьма далеким от идеологии, принадлежащим сугубо научному «дискурсу». О научности «социальной науки» вообще шла речь выше. Теперь, специально скажем о «цивилизации», как одном из её ключевых концептов.
В современное словоупотребление, в «культурный оборот» современной цивилизации, это понятие было введено просветителями, и, изначально имело соответствующее просвещенному сознанию содержание. Вот, что говорится об этом в советском «Философском энциклопедическом словаре»: «Понятие «цивилизация» появилось в 18 веке. Французские философы-просветители называли цивилизованным общество, основанное на началах разума и справедливости»387. То, как философы-просветители интерпретировали «начала разума и справедливости» известно достаточно хорошо, также как и то, к каким последствиям привела попытка перестроить на этих началах французское общество в годы революции. И, надо заметить, что не только идеология Просвещения, но и, может быть, даже, прежде всего, политико-правовая практика Французской революции вдохнула жизнь в понятие «цивилизация». Многие революционные деятели вдохновлялись, как известно, образами тираноборцев Древнего Рима, и римское «civilis» – гражданский, также было востребовано революцией, которая, собственно и провозгласила своей задачей, превращение подданных в граждан. Слово «гражданин» стало её ключевым понятием-лозунгом, а призыв «К оружию, граждане!», периодически звучавший вплоть до «Парижской коммуны», главным способом революционного творчества. Это понятие породило и «священное писание» либерализма – «Всеобщую декларацию прав человека и гражданина», ибо гражданин – это именно тот, кто имеет права и свободы.
Цивилизованным, теперь, после революции, должно было называть только устроенное на «началах разума» общество, состоящее из имеющих «права и свободы» граждан. Это либеральное представление в своем дальнейшем концептуально-теоретическом развитии в рамках соответствующей идеологии, привело к появлению концепта «гражданского общества», как чего-то, противостоящего государству. Показательно, с точки зрения, идеологической «нагруженности» понятий «цивилизация» и «гражданин» определение «цивилизации» в словаре В. И. Даля: «Общежитие, гражданственность, сознание прав и обязанностей человека и гражданина»388. Результат, как видим, налицо, – не где-нибудь, а в самодержавной России, спустя сто лет после французской революции, цивилизация, в общеупотребительном смысле этого слова, (!) определяется, как «сознание прав человека и гражданина», то есть в полном соответствии с либеральной идеологией. Неудивительно, что не так уж много времени спустя мгновение по историческим меркам, появились знаменитые (когда-то) слова пролетарского поэта: «Читайте, завидуйте, я – гражданин!» Слова эти, как раз и выражают политико-идеологическое значение этого «цивилизованного понятия».
Либеральные коннотации «цивилизованности» проистекают не только из ее этимологически обусловленной синонимичности политико-идеологической «гражданственности». В современном словоупотреблении, причем, опять же, как обыденном, так и научном, понятие цивилизации (характерно устойчивое словосочетание «культура и цивилизация»), поскольку оно не является просто синонимом понятия культура, обозначает, прежде всего, и главным образом, внешнюю, материально-техническую (в широком смысле слова) сторону жизнедеятельности человека и общества. Неслучайно, очевидно, сложилась идиома «технические достижения современной цивилизации», ибо, по большому счету, последняя может похвастаться именно и только техническими достижениями. Сущностное отличие цивилизации, как чего-то материально-технического от культуры, как духовного, тонко почувствовал Шпенглер, определивший цивилизацию, как стадию «умирания», «окостенения» культуры. Оставленное еще Гоббсом и Локком «родимое пятно» материалистичности либерализма проявляется в произведенном им понятии «цивилизация», так же, как и во всех других продуктах его идеологии. Для иллюстрации этого проявления можно вспомнить, что «цивилизованный» человек отличается от нецивилизованного едва ли не исключительно внешними, техническими признаками: он моет руки перед едой, переходит улицу только на «зеленый свет», умеет приятно улыбаться и, вообще, скрывать свои чувства (если, конечно, они у него есть), то есть, вести себя цивилизованно. И, конечно, обязательно для него, умение обращаться с «новейшими техническими достижениями» и само стремление ими пользоваться. Но, даже сегодня еще понятно, что «цивилизованный человек» (хотя в это понятие и встроена положительная оценка), – это совсем не обязательно добрый, честный, даже умный, вообще, не обязательно хороший человек. «Цивилизованность», в применении, к индивиду, – это скорее характеристика тела, а не души, внешних поведенческих навыков, а не внутренних личностных качеств, душевно-духовного мира личности. То же и в применении к обществу: его цивилизованность, даже официально, помимо материально-технических, измеряется еще только политико-правовыми критериями и, если и коррелирует с духовностью, то обратно пропорционально, что, во всяком, случае, очевидно, относительно ралигиозности. Да и в сфере искусства и общественной морали, достижения современной цивилизации достаточно хорошо известны389. Но дело, конечно, не в отдельных «достижениях», её пресловутая «бездуховность» (о которой, начиная с Леонтьева и Ницше вот уже почти полтора столетия говорят все крупнейшие мыслители и Запада, и России) – закономерное следствие бездуховности либеральной идеологии, которая, напомним, знает, что в действительности существуют только индивиды и пустота. Материально-технический, материалистический характер оказывается, таким образом, ещё одной точкой совпадения принципиального сущностного смысла понятий «либерализм» и «цивилизация».
Выше было сказано, что все три рассматриваемых понятия взаимодополняют и взаимопроясняют свое содержание. Понятие «цивилизованный», в качестве одного из своих широко употребляемых синонимов, в обыденной речи и в общественно-политической лексике, имеет понятие «современный». Об этом последнем нельзя сказать даже того, что оно, хотя бы на первый взгляд, далеко от идеологии. Напротив, его идеологичность, что называется, «бросается в глаза» и само его употребление уже переводит «дискурс» в сферу идеологии. Ведь в прямом и точном смысле слова, все ныне существующие общества (и люди) современны, причём в совершенно одинаковой степени. Либерализм, однако, считает, что, «на самом деле», это не так. С его точки зрения, не все существующие сегодня общества современны, а «современные», «современны» в разной (причём иногда в существенно разной) степени. Он, таким образом, придает понятию «современность» свой собственный либеральный смысл, производя, тем самым, идеологему, с дальнейшей перспективой ее превращения в идеологическое концептуальное оружие для борьбы с нелиберальным мировоззрением, которое, соответственно, в силу своей нелиберальности, оказывается, также и не современным. Краткую историю понятия «современность» хорошо описывает И. Валлерстайн. В своём описании он раскрывает его либеральную природу. «Современность», согласно американскому социологу имеет два смысла: технологический и социально-политический390. Стоит, впрочем, подчеркнуть, что «технологический смысл», на что не обращает особого внимания Валлерстайн, также имеет социально политическое «измерение». Оно состоит в том, что либеральная идеология ставит технику на место «метафизических сущностей», отводя ей роль важнейшего, материального фактора общественного развития. Это, принципиальное для либерализма, материалистическое понимание истории, наглядно проявляется в разработке и пропаганде концепций вроде «пост-индустриального», «информационного» и т.п. «обществ». Собственно, социально-политическую «коннотацию» понятия «современность» Валлерстайн характеризует как: «воинствующую и не допускающую критики», как «идеологическую», намеренно противопоставляющую себя средневековому (=религиозному) миросозерцанию и ведущую к «социальному конфликту»391. Он пишет, что «современность»: «это и Вольтер, кричащий «Раздавите гадину!» и Милтон, по существу прославляющий Люцифера в «Потерянном рае» и все классические «Революции» с большой буквы», и добавляет, что она означает также и «учение об отделение церкви от государства», и пропаганду дарвинизма, и свободу абортов392. Заметим, что эта характеристика Валлерстайна, совпадает, по сути, с тем, что говорили многие мыслители 19-20 веков, отмечавшие принципиальное противостояние современной цивилизации, берущей своё начало в гуманизме эпохи Возрождения, и религиозной, в своих основах, цивилизации Средневековья. Мы приведём здесь только афористичное высказывание А. Ф. Лосева на этот счёт: «Почти вся история Запада есть не что иное, как либеральная критика средневековья. В этом вся его «душа»393.
Можно сказать таким образом, что современность, стала одним из наименований новой либеральной (= антирелигиозной = материалистической = антитрадиционной = индивидуалистической) системы ценностей. Как пишет российский учёный Б. Г. Капустин, посвятивший этому понятию монографическое исследование: «Современность – как понятие философии культуры и политической теории обозначает проблемную ситуацию, в которой оказываются общества, вследствие подрыва и распада того строя высших ценностей, которые ранее легитимировали их порядки, обеспечивали осмысленность общей картины мира у членов этих обществ»394. Далее он обращает внимание на еще один важнейший момент, отмечая, что, поскольку, современность «подрывает объективный онтологический статус высших ценностей, задававших в традиционном обществе общую концепцию человеческой жизнедеятельности, то принципом современного общества, как его формулирует Гегель, выступает «абсолютная самостоятельность индивида»395. То есть, экзистенциальный смысл «современности» в том, что с распадом традиционных ценностей человек, если воспользоваться формулировкой Хайдеггера, «сам себя стал наделять предназначением и задачей». И, более того, современный человек считает своим правом не ставить себе вообще никаких задач (в чем, собственно, и состоит его современность), отказывается от предназначения как такового. Последнее становится для него чем-то сугубо внешним, сковывающим, а не раскрывающим-формирующим его личность. Он забывает и, попросту, перестает понимать смысл этого слова, которое оказывается именно несовременным. Так подготавливается почва для взращивания эгоизма. Суть «современности» и либерализма принципиально одна и та же, и заключается в индивидуализме.



