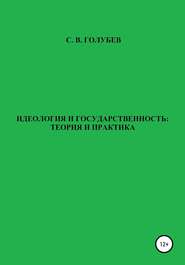 Полная версия
Полная версияИдеология и государственность: теория и практика
Либерализм и искусство. Искусство в своем истоке сакрально и вдохновляется стремлением к высшему, к красоте. Но либерализм не хочет знать, не только ничего святого, но и ничего высшего. Он ищет и находит «земные», материальные корни всех явлений человеческой жизни. Но даже в таком «материалистическом» варианте, трудно отрицать, что искусство обращено к духовному миру человека, к его душе. И если считать, что человек должен «развиваться», «стремиться стать лучше», то искусство, очевидно, должно помогать ему в этом. Искусство тогда есть, – в этом его сущностное предназначение, – средство, способствующее душевно-духовному эмоциональному становлению, развитию человека, вектор, направляющий его движение вверх, к лучшему, к некоему идеалу. Но либерализм не считает, что человек вообще «что-то должен», более того, проповедует, что человек каждый всякий, каков он есть, и так достаточно хорош. Да и кто сказал «лучше», спрашивает он? Что это значит? Человек сам решает, что для него лучше. Тезис, заметим здесь, очевидно, ложный, по меньшей мере, в отношении детей и подростков, которые ведь тоже «человеки». Но развитой либерализм 21 века этим не смутишь, он не зря говорит о «правах ребенка» и с детского сада учит высказывать «свое мнение». Главное – он не хочет знать никаких идеалов, их не существует для него. Одно из любимых его занятий, это, как раз, «развенчание» идеалов, осмеяние их. Иметь идеалы в нетрадиционном обществе, означает быть «не от мира сего», проявлять некоторую интеллектуальную недалекость или странность. Поскольку у либерализма нет идеалов, он отнимает их и у искусства, то есть, собственно, разлагает его. Он переворачивает традиционное естественное отношение искусства и человека. Если прежде человек должен был «тянуться к искусству», учиться его воспринимать, развивать свои способности, чтобы быть в состоянии его понимать, то в либеральном обществе, искусство, напротив, опускается до уровня «среднего человека». Оно теперь должно подстраиваться под него, под его вкусы и потребности, должно, вообще говоря, научиться соответствовать настроениям и пожеланиям массы, стать предметом потребления или исчезнуть.
Если прежде считалось, что искусство творится гением и для творчества необходимо вдохновение, то в современном обществе правит бал «креативность», – демократический суррогат гениальности. Здесь все «креативны», у каждого есть «творческие способности». Либерализм не хочет знать самого понятия «гений», «творческий человек», его мир – это мир без творца. Гении не менее чужды либерализму, чем идеалы. Он метафизически и экзистенциально противостоит им. Как верно было замечено, гений и либерализм еще более «несовместны», чем гений и злодейство. Если идеалы либерализм осмеивает, «опускает на землю», то гениев подменяет. Их место занимают «звезды», популярные персонажи, производимые индустриальным способом на соответствующих «фабриках». В «обществе свободы и равенства» производство произведений искусства ставится «на поток». Либерализм делом, на практике, «доказывает», что все люди «от природы» обладают «творческими способностями».
Для этого разработана чёткая и неукоснительно соблюдаемая система оценивания, – поощрений, награждений и наказаний. Это система всевозможных премий, фестивалей, заказов406 и закупок произведений искусства. Показательна, в этой связи (о продукции Голливуда не стоит, очевидно, и говорить), знаменитая Нобелевская премия по литературе. То, что она всегда была идеологизирована, убедительно показал В. В. Кожинов в работе с говорящим названием «Нобелевский миф»407. А в последние годы присуждение этой премии представляет собой прямо-таки апофеоз «политкорректности» и «гендерного равенства», в котором собственно литературе, художественным произведениям остается все меньше места. Доказывать это тому, кто «не хочет видеть», очевидно, не имеет смысла. Для иллюстрации же приведём характерное высказывание российской писательницы Т. Толстой, назвавшей недавнее присуждение нобелевской премии по литературе бывшей советской журналистке, известной своей борьбой за свободу и демократию, – «очередным плевком в литературу». В гротескной форме борьба современного искусства с гением, когда «гения» делают буквально из «ничего», из «пустого места» показана писателем и публицистом Ю. А. Поляковым в повести «Козлёнок в молоке».
Либерализм, таким образом, с одной стороны, разлагает, вульгаризирует искусство (демократизирует, как он говорит), а с другой, закономерно превращает его в средство идеологической борьбы, «промывки мозгов». Причём не только для разрушения традиционной морали, когда «передовое искусство» означает нецензурную брань, демонстрацию интимных частей тела и рекламу гомосексуализма и кровосмешения, но и для «доказательства» правильности своих принципов, прежде всего, равенства и, конечно, свободы. Для пропаганды этих ценностей сфера искусства особенно значима. Либерализм и здесь остается верен себе, пропагандируя всеобщую «креативность», он не устает отстаивать также и «свободу творчества». Делая «гениев из ничего», он, в дополнение к этому, «разрушает стереотипы», «отвергает догмы»-каноны и «стирает грани», учит «видеть красоту даже в безобразном» и уничтожая, тем самым критерии различения, подавляет способность эстетического суждения как таковую. Либерализм не знает плохого и хорошего вкуса (также как вообще «плохого и хорошего» и даже «нормального и ненормального»), для него все вкусы разные, «у каждого свой» и только. В нетрадиционном обществе, вообще говоря, всё, любые проявления человеческой жизнедеятельности, может быть приписано к искусству. Здесь рождается «поп-искусство» и появляется «масскультура». Они уже почти откровенно не являются искусством, всё больше становясь производством, превращаясь в «шоу-бизнес». В этой сфере уже не создаются произведения по вдохновению, а «реализуются проекты» по схеме и калькуляции. Характерные явления: «фонограммные певцы», бесконечные телесериалы и «женские романы» для убивания времени в метро.
С другой стороны, либерализм порождает «элитарное искусств». Оно представлено, в основном, абстракционизмом-постмодернизмом, то есть фильмами, которые могут смотреть только «киноведы», книгами, которые неизвестно кто читает, «картинами» на которых отсутствует изображение и безмелодийной музыкой. Это «искусство» также как и «массовое» не имеет отношения к подлинному, но, в данном случае, это тщательно скрывается. Дело в том, что если у «популярного искусства», цель – предоставлять зрелища, вообще развлекать (и отвлекать), то «элитарное» предназначено для другого. Его функция сугубо идеологическая, оно должно показывать «устарелость», еще лучше, вредоносность традиционных, вообще привычных ценностей и норм, и пропагандировать новые (инновационные), нетрадиционные ценности. Прежде всего, для него изобретен характерный либеральный концепт – «современное искусство». Современная живопись, современный театр, роман, музыка, танец и т.п., – этого магического слова-заклинания вполне достаточно, чтобы отбросить (либо как неэстетические, либо прямо как реакционные) любые возможные обвинения в непрофессионализме или безнравственности. Искусство, которое стремится облагораживать, возвышать или хотя бы воспитывать вкус, с «элитарной» точки зрения оказывается архаичным или того хуже, «тоталитарным». В современном обществе, где каждый и так вполне благороден (или вовсе и не стремится к благородству) и обладает достаточно хорошим (не хуже, чем у других) вкусом, оно становится ненужным. Искусство, таким образом, подавляется, превращается в удел чудаков, маргиналов, – несерьезное занятие, в лучшем случае вытесняется в любительство или кое-как реанимируемый фольклор. Это подавление, собственно, и осуществляется соединенными усилиями «популярного-массового» и «элитарного» искусства. Тем самым, в нетрадиционном обществе замена натуральных «пищевых продуктов» генномодифицированными дополняется также и подменой нормальной традиционной «духовной пищи», пищей «генномодифицированной», что, очевидно, не может не вести к производству все более нетрадиционного, «модифицированного» человека.
Либерализм и экономика. «Экономика» – это «первая любовь» либерализма. Он хочет видеть ее в качестве основополагающей сферы общественной жизни, а человека, прежде всего, субъектом «экономической деятельности» и «отношений». В каждом социальном явлении либерализм хочет раскрывать «экономическую подоплеку». Это он называет «научным объяснением». «Первичность» экономики он обосновывает тем, что «люди, прежде всего, должны есть, пить и одеваться», забывая, правда объяснить, почему животные, которыми тоже движет голод, не занимаются «экономической деятельностью». «Собственность» – единственное слово, к которому либерализм применяет эпитет «священная» без иронии и «скрежета зубовного». А еще он превращает экономику в науку. «Теоретическим источником» этой последней являются, главным образом, учения «идеолога буржуазии» А. Смита и «идеолога пролетариата» К. Маркса. Возникнув не ранее 20 века, наука экономика сегодня стала одной из важнейших социальных наук и, по совместительству, важным политическим рычагом и средством пропаганды либеральной идеологии в сфере образования и в СМИ.
Само слова «экономика» либерального происхождения и весьма либерально по духу. Смысл его очень широк и подвижен, трудноуловим. Применяется оно очень свободно и может претендовать, по меньшей мере, на второе место в рейтинге неопределенности, вслед за словом «социальный». Характерно, что в словаре традиционного общества это современное понятие отсутствует. Греческое «oekanomik» означает, как известно, ведение домашнего хозяйства. Еще А. Смит писал не об «экономике», а о «богатстве народов». В русском языке слово «экономика» появилось только после революции, в китайском и японском, например, также только вследствие модернизации и вестернизации. Подменяя домашнее хозяйство, вообще привязанное к конкретному понятие «хозяйство» абстрактной «экономикой», либерализм неявно переориентирует производство, устремляет его в дурную бесконечность прибыли как самоцели. Если хозяйство традиционного общества было ориентировано на удовлетворение естественных потребностей человека и в своем «развитии» учитывало «внеэкономические» факторы (религиозно-нравственные, гармоничного природопользования и т.п.), то экономика нетрадиционной цивилизации «развивается» за счет искусственных потребностей, вынуждена наращивать темпы потребления невосполнимого вещества природы и, отравляя «окружающую среду», закономерно ведет к «экологическому кризису» с дальнейшей перспективой гибели «человечества».
Но дело не только в «экологическом кризисе», подлинной причиной которого является господство либеральной идеологии, культивирующей индивидуализм, неизбежное следствие которого – потребительское отношение к природе. В основе «экономики», как ее не определяй, лежит труд, а, кстати, и фигура хозяина. Но либерализм постепенно заменяет хозяина (веберовский тип капиталиста-протестанта, например) наёмным «менеджером», вообще наёмным работником, «продавцом рабочей силы», его тип, основной фигурант нетрадиционной экономики, – это не столько предприниматель, сколько финансист, не хозяин, а делец, если употребить старое русское слово. И главное: либерализм практически отменяет необходимость трудиться. Труд в нетрадиционном обществе оказывается подчинен досугу. Здесь работают, чтобы отдыхать, то есть целью деятельности становится отдых от нее, собственно бездеятельность. Переворачивая традиционное отношение труда и отдыха, либерализм, по сути, обессмысливает труд, лишает его статуса экзистенциально необходимого. Если прежде труд был естественной необходимостью, способом существования человека, средством его самореализации и самосовершенствования, то сегодня он превратился только в средство добывания «средств к существованию». Поэтому в «свободном обществе» возникает стремление освободится от труда, ставшего для современного человека сугубо внешним требованием. Здесь формируется представление, что надо заниматься «любимым делом», только тогда труд не в тягость.
Поскольку в нетрадиционном обществе труд утрачивает свое нравственное измерение, главным, по сути, единственным, критерием его «общественной значимости» становится не качество, а количество – сумма добываемых денег. Соответственно, здесь всё объявляется трудом, разновидностью «экономической деятельности». Всё называется просто профессией, такой же, как и другие, и всё сваливается в одну кучу: офицеры и проститутки, футболисты и шоумены, артисты варьете и врачи, учителя, сталевары. Здесь в «постиндустриальном обществе» возникает целая «секс-индустрия», появляются даже «суррогатные матери». Все профессии важны, все профессии нужны. Профессия учителя или сталевара, правда, все реже становится «любимым делом». Зато таковым в результате либерального «переворачивания» все чаще оказывается отдых. Если в традиционном обществе труд был «делом чести, доблести и геройства» и самоутверждение человека заключалось в ответе на вопрос «что ты создал?», «что ты можешь сделать?», то сегодня производительный труд, едва ли не удел неудачников. Свободные граждане нетрадиционного общества самоутверждаются не в созидании, а в потреблении. Не то, что ты создал, а достигнутый тобой уровень потребления, не столько то, где и как ты работаешь, сколько то, где и как ты отдыхаешь, – вот что сегодня, прежде всего, характеризует человека, говорит об уровне и достоинстве его личности и в его собственных глазах и в глазах окружающих.
Современный человек погряз (или мечтает об этом) в путешествиях, перелетах-переездах, отелях-ресторанах, пляжах-сафари и горных лыжах и, конечно, в «шопингах». Его «самореализация» – это лежание в шезлонге у «ласковой волны» и катание по белоснежным склонам, «много женщин и машин», как пел когда-то В. Высоцкий. И\или, конечно, «много мужчин и машин» следует добавить в век торжествующего «гендерного равенства». Характерное для развитого либерального общества демонстративное, «имиджевое» потребление, заметим, несвойственно, классическому, во всяком случае, восходящему капитализму с его протестантской бережливостью и опорой, в значительной степени, на традиционные ценности. Последними, наверное, представителями такого капитализма были Г. Форд, 30 лет ездивший на одном автомобиле, и создатель ИКЕА И. Ф. Кампрад, покупавший продукты в обычном магазине. «Консюмеризм» же современной бизнес-элиты с её поместьями, яхтами и «девушками» напоминает, скорее, превращенную форму архаичного, демонстративного потребления вождей африканских племен и восточных царьков, выставлявших напоказ свое «благосостояние» и негу.
Замена человека созидающего, человеком потребляющим-отдыхающим408, производимая либерализмом в рамках нетрадиционной цивилизации, подрывает, таким образом, даже капиталистическое производство. Последнее, соответственно, переносится на Восток в страны с еще сохраняющейся традиционной моралью. Но такая мера в свете успехов глобализации и модернизации, очевидно, может дать только временный эффект. Поскольку он будет исчерпан, вышеуказанная замена может означать только одно: окончательный приговор цивилизации вообще, если, конечно, считать, что человек должен в «поте лица своего зарабатывать хлеб свой» или хотя бы, что его «создал» труд.
Либерализм и спорт. Характерным феноменом современной цивилизации (и показательным в отношении либерального «переворачивания» вообще, и труда и отдыха, в частности) является феномен спорта, – этого то ли труда, то ли досуга, и профессии, и игры. Скажем поэтому несколько слов на эту, вроде бы, «не идеологическую» тему.
Спорт есть продукт, изобретение либерализма, одно из его любимых детищ. Именно либерализм превратил спорт в профессию и придал ему ту роль, которую он играет сегодня в общественно-политической жизни. Исторически, спорт, как социальное явление в европейской культуре, возникает не ранее второй половины 19 века в либеральной Англии. А его дальнейшее развитие, рост его значения в 20 веке становится все более «бурным», в полном соответствии с ускорением «победного шествия» либерализма в последние полтора столетия. Показательным, в этом отношении, стало возрождение и развитие «олимпийского движения». Сегодня спорт, в либеральной культуре-цивилизации играет совершенно ту же роль, что и бои гладиаторов, вообще цирковые представления во времена поздней Античности. Он предоставляет зрелища, обеспечивая, таким образом, современному «плебсу», человеку-массе не просто «развлечения», но и содержание-смысл существования, давая ему «пищу для размышлений» и «эмоциональных переживаний», производит новости, позволяя ему заполнить досуг. Спорт дает возможность не только «эмоциональной разрядки», но также и возможность ощутить то, чего так не хватает либеральной культуре,– «чувство сопереживания», «единства» (в том числе, и «национального»), которые, тем приятнее, что, будучи по существу суррогатными, всегда остаются сугубо поверхностными, ситуативными и, в принципе, не угрожают комфорту «болельщика», (фаната, как сегодня говорят), не требуя от него ни поступка, ни дела. Но спорт «любим» либерализмом не только за это. Современные спортсмены делают гораздо, больше чем когда-то гладиаторы в древнем Риме. Спорт, сегодня, – один из главных «агентов» глобализации, проводников «мультикультурализма», – он «стирает границы», расширяет «молодежные контакты», вообще, всячески способствует «единству человечества», которое с огромным интересом следит за трансляциями Олимпиад и «Мундиалей».
Но и это еще не всё и, может быть, даже, не самое важное. Современный спорт во все большей степени становится фактором разрушения морали, особенно мотивации к упорному производительному труду. То, что занятие спортом не должно становиться профессией, еще недавно интуитивно ощущалось общественным сознанием, нелиберальным его сегментом. Этого профессионализма, как известно, «стеснялись» в СССР, да и в той же Англии, в 60-е гг. «зарплата» футболиста была немногим больше заработной платы высококвалифицированного промышленного рабочего. Сегодня спортсмен, – едва ли не самая высокооплачиваемая профессия. Если когда-то гладиаторами, профессиональными спортсменами были, как правило, рабы, разного рода изгои, вообще люди с низким социальным статусом, то в либеральном обществе, спортсмен – это один из самых высоких социальных статусов. Последствия этого «социального достижения» либерализма для трудовой этики предсказать, очевидно, не трудно. Но дело не только в «экономике». Спортсмены сегодня, – одни из «лидеров» общественного мнения. Они – «посланцы мира», «благотворители», они высказываются по политическим вопросам, формируют стереотипы «массового сознания» и задают его носителям эталоны поведения. Более того, они нередко становятся национальными героями. Их награждают орденами, им дают почетные звания и государственные посты. И это, отнюдь не случайная практика. Напротив, в ней можно увидеть проявление принципиальной (ведь «люди по природе равны») либеральной установки на «развенчание» героев. Героизация спортсменов, с этой точки зрения (вполне в духе либеральных методов, когда, например, «деидеологизация», оказывается, в действительности средством идеологизации, – продвижения либеральной идеологии), есть не что иное, как один из способов дегероизации общественного сознания. Если для того, чтобы стать «героем» достаточно научиться ловкому обращению с мячом или с шайбой, то понятие героизма приобретает, очевидно, слишком «широкое значение» и, во всяком случае, обесценивается. Таким образом, происходит смещение и девальвация всей системы моральных ценностей, поскольку понятие «герой», и только оно, задает вектор морального совершенствования, духовной самостоятельности и внутренней свободы личности. Тем не менее, либерализм, очевидно, вполне готов обходиться «героями спорта»409, в его системе нравственных координат, как и для лакея, не существует героя или, что то же самое, логически, да и практически, – «героем может стать каждый».
Моральной дезориентации, размыванию критериев, способствует, заметим, даже принятое в спорте словоупотребление, когда, например, говорят победа, вместо выигрыш; «воля к победе», «отстаивают честь страны», «отдают все силы борьбе» и т.п. Все это, опять же, не может не девальвировать смысл высоких, необходимых человеческому духу, его свободе, понятий: «победа», «воля к борьбе», «честь страны». И это не говоря уже о том, что экспансия спортивной лексики в «речевую коммуникацию» интернационализирует, вульгаризирует и упрощает её или, как можно было бы, наверное, сказать, в русле хайдеггеровской мысли, – служит одним из средств «выталкивания» подлинной речи, живого языка в забвение. В ракурсе «морального измерения» приходится обратить внимание и на такие, специфические для современного спорта проявления, как «допинговые скандалы», политически мотивированные решения «международных спортивных организаций» и ставшие обыденностью мелочи, вроде ставок на тотализаторе, подкупа спортсменов и судей, что также не способствует, очевидно, укреплению общественной морали.
И в завершение описания современной цивилизации краткая характеристика её политической сферы. Либерализм и политика это, конечно, необъятная тема. Мы здесь ограничимся простой фиксацией лишь некоторых особенностей современной политической жизни.410 Вообще говоря, «официально», либерализм не очень жалует политику. Он утверждает, что она есть просто «концентрированная» экономика, часто называет её «грязным делом» и не устаёт вкрадчиво советовать простому обывателю, что бы тот «не лез в политику». И, надо сказать, что демонстративно прохладное отношение к последней, далеко не случайно для либеральной идеологии. Поскольку она отрицает необходимость сакрального основания общественной жизни и провозглашает принципы свободы и равенства, управление обществом как таковое оказывается проблематичным, чтобы не сказать невозможным. Дело в том, что эрозия религиозности, отрицание сакрального, вообще, объективно ведет к распаду морали, являющейся необходимым средством регулирования человеческих взаимоотношений. Философски, это, как известно, было обосновано Кантом, а в системно-теоретической, научной форме,– Н. Луманом, отметившим, что «мораль вынуждена прятать свои основания в некоммуницируемые таинства религии»411. Что касается свободы, то либерализм, как известно, понимает её сугубо индивидуалистически, негативно, как свободу «от». Для такой свободы власть, вообще другие, собственно говоря, общество, всякая норма, является препятствием. Но, главное, – это равенство абстрактному самосознанию которого «противен», как говорит Гегель, любой социальный институт, как таковой. Очевидно, что действительное равенство не может не означать снятие различения управляющих и управляемых. В обществе равных управлять должны были бы все, то есть никто, – это было бы неуправляемое общество, что и отмечает Гегель: «последовательный принцип равенства отвергает все различия и, таким образом, не даёт существовать никакому виду государственного состояния»412.
Поскольку публично декларируются принципы, неприменимые практически, к реальной политической деятельности, последняя должна оставить сферу публичности. Либерализм, таким образом, уводит реальную политику «за кулисы», она, соответственно, действительно становится «грязным делом». «Закулисный торг», «двойные стандарты», «закрытые клубы» и «тайные общества», разного рода «партийные сговоры» и «продажность политиканов», – все эти идиомы политического лексикона наших дней неслучайны и обозначают характерные явления современной политики. Явления не эпизодические, порождаемые «плохими парнями», а закономерные, неизбежно возникающие в либеральной системе политических координат. Очевидно, должно быть, что если публично заявленные принципы государственного устройства входят в противоречие с объективно необходимыми принципами организации управления, как такового, то первые неизбежно останутся лишь декларациями. Управление социально-политическими процессами, безусловно, должно осуществляться. И если какие-то формальности, пусть даже и «закрепленные в Конституции» ему препятствуют, то оно будет осуществляться посредством неформальных рычагов, уйдет с официальных «переговорных площадок» и «мест для дискуссий» в негласную тишину кулуаров, а на «площадках для дискуссий» останутся исполнители, причем, как правило, те, на которых можно воздействовать, в том числе, и «незадекларированными» неформальными методами. То, что предлагается публике, «электорату» зачастую представляет собой просто игру, розыгрыш, сугубо сценический симулякр, срежиссированный и отрепетированный умелыми «кукловодами».



