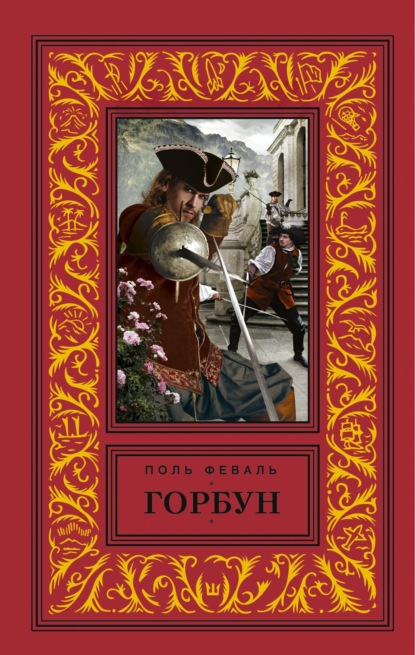
Полная версия:
Горбун
– За это время, – подмигнул Ориоль, – мы ни разу не ужинали в маленьком домике.
– В саду есть нечто вроде караулки, – сказал Монтобер. – Охраной руководят попеременно Фаэнца и Сальдань.
– Тайна! Здесь тайна!
– Наберемся терпения. Мы все узнаем сегодня же. Эй, Шаверни!
Маркиз вздрогнул, словно его внезапно разбудили.
– Шаверни, ты спишь!
– Шаверни, почему ты онемел?
– Шаверни, скажи что-нибудь, пускай даже обидное для нас.
Маленький маркиз провел по подбородку белой рукой.
– Господа, – произнес он, – вы по три-четыре раза на дню готовы продать душу за несколько банковских бумажек; я же за эту девушку продам душу один раз, вот и все.
Расставшись с Кокардасом-младшим и Амаблем Паспуалем, удобно устроившимися в кладовой за обильной трапезой, господин де Пейроль вышел из дворца через дверь в сад. Он пошел по улице Сен-Дени и, проходя позади церкви Сен-Маглуар, остановился перед калиткой другого сада, стены которого почти исчезли под огромными ветвями старых вязов. В кармане роскошного камзола де Пейроля лежал ключ от этой калитки, в которую он и проскользнул. Сад был запущен. В конце тенистой аллеи высился совершенно новый павильон в греческом духе, перистиль которого окружали статуи. Настоящая игрушка! Последнее творение архитектора Оппенорта! Де Пейроль прошел по тенистой аллее к павильону. В вестибюле находилось много лакеев в ливреях.
– Где Сальдань? – спросил Пейроль.
Господина барона де Сальданя не видели со вчерашнего вечера.
– А Фаэнца?
Тот же ответ, что и на вопрос о Сальдане. На тощем лице интенданта отразилось беспокойство.
«Что это значит?» – подумал он.
Не расспрашивая больше лакеев, он поинтересовался, можно ли видеть мадемуазель. Слуги засуетились. Первая камеристка крикнула, что мадемуазель ждет господина де Пейроля в своем будуаре.
– Я не спала, – воскликнула та, кого называли мадемуазель, едва увидела гостя, – всю ночь не сомкнула глаз! Я больше не хочу оставаться в этом доме! Улочка, что идет по ту сторону стены, – настоящая западня.
Это была та самая восхитительная красавица, которую мы видели во дворце де Гонзага. В утреннем дезабилье она была еще прекрасней, если это возможно. Свободный белый пеньюар позволял угадать совершенство ее фигуры, легкой и крепкой одновременно; ее распущенные прекрасные черные волосы волнами ниспадали на плечи, а маленькие босые ножки играли атласными домашними туфельками. Дабы без опаски подойти к подобной чаровнице, надо быть каменным. Де Пейроль обладал всеми достоинствами, необходимыми доверенному человеку, каковым он являлся при своем господине. Он мог бы поспорить за звание самого невозмутимого человека с Месруром – главным черным евнухом халифа Гаруна аль-Рашида. Вместо того чтобы восхищаться прелестями своей прекрасной собеседницы, он сказал ей:
– Донья Крус, господин принц желает видеть вас в своем дворце сегодня утром.
– Чудо! – воскликнула девушка. – Я смогу выйти из тюрьмы! Перейду улицу! О! Вы уверены, что не грезите наяву, господин де Пейроль?
Она посмотрела ему в лицо, потом расхохоталась и исполнила двойной пируэт. Интендант, даже не моргнув глазом, добавил:
– Господин принц хочет, чтобы во дворец вы пришли одетая и причесанная.
– Я! – снова воскликнула девушка. – Одетая! Santa Virgen![28] Я не верю ни единому вашему слову.
– Однако я говорю совершенно серьезно, донья Крус. Вы должны быть готовы через час.
Донья Крус посмотрелась в зеркало и засмеялась себе в лицо. Потом, быстрая словно огонь, бегущий по пороховой дорожке, закричала:
– Анжелика! Жюстина! Мадам Ланглуа! Как же медлительны эти француженки! – добавила она, гневаясь, что служанки не прибежали на зов немедленно. – Мадам Ланглуа! Жюстина! Анжелика!
– Им нужно время… – начал было флегматичный интендант.
– А вы убирайтесь! – махнула рукой донья Крус. – Вы выполнили поручение. Я приду.
– Нет, я вас провожу, – возразил Пейроль.
– О скука, Святая Мария! – вздохнула донья Крус. – Если бы вы знали, как мне хочется увидеть другое лицо, а не ваше, мой добрый господин де Пейроль.
В этот момент одновременно вошли госпожа Ланглуа, Анжелика и Жюстина – три парижские горничные. Донья Крус о них уже забыла.
– Я не желаю, – сказала она, – чтобы эти два человека оставались на ночь в моем доме, – они меня пугают.
Речь шла о Фаэнце и Сальдане.
– Такова воля монсеньора, – ответил интендант.
– Разве я рабыня? – воскликнула бойкая девушка, краснея от гнева. – Разве я просила привозить меня сюда? Если я узница, позвольте мне хотя бы выбирать своих тюремщиков! Пообещайте мне, что я больше не увижу тех двоих, иначе я не пойду во дворец.
Госпожа Ланглуа, первая камеристка доньи Крус, подошла к господину де Пейролю и что-то шепнула ему на ухо.
Лицо интенданта, бледное от природы, стало белым как мел.
– Вы это видели? – спросил он дрожащим голосом.
– Видела, – ответила камеристка.
– Когда?
– Только что. Нашли обоих.
– Где?
– За потайной дверью, ведущей на улицу.
– Я не люблю, когда в моем присутствии шепчутся! – высокомерно бросила донья Крус.
– Простите, сударыня, – униженно извинился интендант. – Вам достаточно будет узнать, что вы больше не увидите тех двоих, которые вам так не нравились.
– В таком случае пусть меня оденут! – приказала красавица.
– Вчера вечером оба поужинали внизу, – рассказывала госпожа Ланглуа на лестнице, провожая Пейроля. – Саль-дань, который дежурил, захотел проводить господина де Фаэнцу. Мы услышали на улице звон шпаг.
– Донья Крус мне об этом рассказывала, – перебил Пейроль.
– Шум продолжался недолго, – вновь заговорила камеристка. – А недавно лакей, выйдя на улочку, наткнулся на два трупа.
– Ланглуа! Ланглуа! – позвала в этот момент прекрасная затворница.
– Посмотрите сами, – добавила камеристка, быстро поднимаясь по лестнице, – они там, в конце сада.
В будуаре три камеристки начали легкую и приятную работу – туалет красивой девушки. Донья Крус скоро предалась ожиданию увидеть себя красивой. Зеркало ей улыбалось. Святая Дева! Она еще ни разу не была так счастлива с момента приезда в этот большой город Париж, в котором видела лишь длинные черные улицы и лишь темной осенней ночью.
«Наконец-то! – думала она. – Мой прекрасный принц сдержит свое обещание. Я буду видеть людей, покажу себя! Париж, который мне так расхваливали, станет для меня не только павильоном, одиноко стоящим в холодном саду, обнесенном забором!»
И, охваченная радостью, она выскользнула из рук камеристок, чтобы протанцевать круг по комнате, как безумный ребенок, каковым она, в сущности, и была.
А де Пейроль тем временем дошел до конца сада. В глубине грабовой аллеи, на куче палых листьев, были расстелены два плаща, под которыми угадывались формы двух человеческих тел. Пейроль поднял один плащ, вздрогнул, потом поднял второй. Под первым лежал Фаэнца, под вторым – Сальдань. У обоих были раны на лбу, между глаз. Зубы Пейроля громко стукнулись друг о друга, и он опустил плащи.
Глава 6
Донья Крус
Есть один обязательный, просто фатальный сюжет, который каждый романист рассказывал хотя бы раз в жизни: история о несчастном ребенке, похищенном у матери-герцогини цыганами. Мы совершенно не знаем и берем на себя обязательство не доискиваться до истины, действительно ли донья Крус была украденной герцогиней или же настоящей дочерью цыганки. Одно точно: всю свою жизнь она провела среди цыган, бродя вместе с ними от города к городу, от деревни к поселку, танцуя на площадях и получая за это мелкие монеты. Она сама нам расскажет, как оставила свое вольное, но малоприбыльное ремесло и приехала в Париж, в маленький домик господина де Гонзага.
Через полчаса после окончания туалета мы видим ее в спальне принца, взволнованную, несмотря на всю храбрость, и смущенную своим вторжением в большую залу дворца Неверов.
– Почему Пейроль не проводил вас? – спросил Гонзаг.
– Ваш Пейроль, – ответила девушка, – потерял речь и ум, пока я занималась своим туалетом. Он оставил меня лишь для того, чтобы прогуляться по саду. А когда вернулся, то походил на человека, которого ударила молния. Но вы ведь звали меня не для того, чтобы говорить о вашем Пейроле, – проворковала она ласковым голосом, – не так ли, монсеньор?
– Нет, – засмеялся Гонзаг, – не для того, чтобы рассуждать о моем Пейроле.
– Говорите скорее! – воскликнула донья Крус. – Вы же видите, что я сгораю от нетерпения! Говорите скорее!
Гонзаг внимательно посмотрел на нее и подумал: «Я искал долго, но найду ли что-то лучше? Она и впрямь на него похожа, если только это мне не чудится».
– Ну что же вы! – продолжала донья Крус. – Говорите!
– Сядьте, милое дитя, – предложил Гонзаг.
– Я вернусь в мою тюрьму?
– Ненадолго.
– Ах! – с сожалением вздохнула девушка. – Я туда все-таки вернусь! Сегодня я впервые увидела кусочек города при солнечном свете. Он так красив. Теперь мое одиночество покажется мне еще тоскливее.
– Мы здесь не в Мадриде, – заметил Гонзаг. – Надо соблюдать осторожность.
– Зачем, зачем осторожность? Какое преступление я совершила, почему должна прятаться?
– Никакого, никакого, донья Крус, но…
– Послушайте, монсеньор, – с жаром перебила его собеседница, – мне необходимо с вами поговорить. У меня слишком много накипело на душе. Вам не было нужды напоминать мне, что мы уже не в Мадриде, где я была бедной сиротой, это правда, брошенной всеми, и это правда, но где я была свободной, как ветерок! – Она замолчала и слегка нахмурила брови. – Помните ли вы, монсеньор, – спросила она, – как много вы мне обещали?
– Я сделаю больше, чем обещал, – ответил Гонзаг.
– Это опять обещания, а я начинаю терять веру в них.
Ее брови расслабились, а резкость взгляда смягчила вуаль мечтательности.
– Все меня знали, – сказала она, – простолюдины и сеньоры; они любили меня и, когда я приходила, кричали: «Сюда, сюда, посмотрите, как цыганка будет танцевать хересское бамболео!» А если я запаздывала, на Пласа Санта за Алькасаром всегда собиралась большая толпа. По ночам мне снятся апельсиновые рощи дворца, ароматами которых благоухала ночь, и эти дома с кружевными башенками, с полуприкрытыми жалюзи. Ах, скольким грандам Испании я одалживала мою мандолину! Прекрасная страна! – вздохнула она со слезами на глазах. – Страна ароматов и серенад! А здесь холодные тени ваших деревьев бросают меня в дрожь!
Она опустила голову на руку. Гонзаг давал ей выговориться; вид у него был задумчивый.
– Вы помните? – внезапно спросила она. – В тот вечер я танцевала позднее, чем обычно; на повороте темной улицы, идущей к собору Вознесения, и вдруг увидела рядом с собой вас; я испугалась и почувствовала волнение. Когда вы заговорили, ваш серьезный и ласковый голос заставил сжаться мое сердце, но я даже не думала о том, чтобы убежать. Вы встали у меня на дороге и сказали: «Как вас зовут, дитя мое?» – «Санта-Крус», – ответила я. Братья, цыгане из Гранады, называли меня Флор, но священник при крещении дал мне имя Мария де Санта-Крус. «А, так вы христианка?» Возможно, вы забыли это, монсеньор!
– Нет, – рассеянно произнес Гонзаг, – я ничего не забыл.
– А я, – продолжала донья Крус дрогнувшим голосом, – я буду помнить ту минуту всю свою жизнь. Я вас уже любила – как? Не знаю. По возрасту вы могли быть моим отцом; но где бы я нашла возлюбленного более красивого, более благородного, более блистательного, чем вы?
Она сказала это, не покраснев. Наша стыдливость была ей незнакома. Гонзаг запечатлел на ее лбу отеческий поцелуй. У доньи Крус вырвался тяжкий вздох.
– Вы говорили мне, – вновь пролепетала она, – «Ты слишком красива, девочка моя, чтобы плясать на площадях с бубном и кастаньетами. Пошли со мной». Я последовала за вами. У меня больше не было своей воли. Войдя в ваш дом, я узнала, что это дворец самого Альберони[29]. Мне сказали, что вы посол регента Франции при Мадридском дворе. Но какое мне было до этого дело! На следующий день мы уехали. Вы не дали мне места в вашем портшезе. Да! Я никогда не говорила вам этого, монсеньор, потому что почти не вижу вас. Я одна, всеми брошена, мне скучно. Я проделала эту бесконечно длинную дорогу от Мадрида до Парижа в карете, окна которой постоянно закрывали плотные шторы; я уезжала из Испании плача, с сожалением в сердце! Я уже чувствовала себя изгнанницей. И сколько раз, Святая Дева, сколько раз в эти молчаливые часы я жалела о своих свободных вечерах, о моих безумных танцах и моем потерянном смехе!
Гонзаг больше не слушал ее; его мысли были далеко.
– Париж! Париж! – воскликнула она с живостью, заставившей его вздрогнуть. – Помните, каким вы рисовали мне Париж? Рай для юных девушек! Волшебная мечта, неистощимое богатство, ослепительная роскошь, непрекращающееся счастье, праздник длиной в жизнь! Помните, как вы опьянили меня этими рассказами?
Она взяла руку Гонзага и сжала ее.
– Монсеньор! О, монсеньор! – жалобно простонала она. – Я видела в вашем саду наши прекрасные испанские цветы; они слабые и грустные, они погибнут. Неужели вы хотите убить меня, монсеньор? – И, внезапно распрямившись, чтобы отбросить назад роскошную гриву волос, она сверкнула глазами. – Послушайте, я не ваша рабыня. Я обожаю толпу; одиночество меня пугает. Я люблю шум – от тишины холодею. Мне нужны свет, движение, а главное – удовольствия, удовольствия, которые и есть жизнь! Меня влечет веселье, пьянит смех, очаровывают песни. От золотого ротского вина у меня загораются глаза, а когда я смеюсь, чувствую, что становлюсь красивее!
– Очаровательная дикарка! – прошептал Гонзаг с чисто отеческой нежностью.
Донья Крус убрала руки.
– В Мадриде вы таким не были, – сказала она и с гневом добавила: – Вы правы, я безумна, но я поумнею. Я уйду.
– Донья Крус, – произнес принц.
Она плакала. Он взял свой вышитый платок, чтобы вытереть ее слезы. Но не успели высохнуть слезы, как на ее лице появилась гордая улыбка.
– Меня будут любить другие, – пригрозила девушка. – Этот рай, – с горечью продолжала она, – оказался тюрьмой! Вы меня обманули, принц. Здесь, в павильоне, меня ждал чудесный будуар, словно перенесенный из дворца феи. Мрамор, прекрасные картины, бархатные шторы, затканные золотом; позолота на лепных украшениях и на скульптурах; зеркала… но вокруг – лишь темные тени, черные лужайки, на которые падают листья, убитые холодом, от которого я стыну, немые камеристки, молчаливые лакеи, суровые охранники и бледный человек в качестве мажордома – этот Пейроль!
– Вам есть за что пожаловаться на господина де Пейроля? – спросил Гонзаг.
– Нет, он раб моих малейших капризов. Он разговаривает со мной ласково, даже уважительно, и всякий раз, когда подходит, метет пером шляпы пол.
– Ну вот!
– Вы смеетесь, монсеньор! Разве вы не знаете, что он запирает мою дверь на засов и играет при мне роль стража сераля?
– Вы преувеличиваете, донья Крус!
– Принц, запертой птице все равно, позолочена ее клетка или нет. Мне не нравится у вас. Я здесь пленница, мое терпение на исходе. Прошу вас вернуть мне свободу!
Гонзаг улыбнулся.
– Зачем вы прячете меня ото всех? – не успокаивалась она. – Отвечайте, я так хочу!
Очаровательная девушка становилась требовательной. Гонзаг продолжал улыбаться.
– Вы меня не любите! – вымолвила она, краснея не от стыда, но от досады. – Поскольку вы меня не любите, то не можете и ревновать!
Гонзаг взял ее руку и поднес к своим губам. Она покраснела еще сильнее.
– Мне казалось… – прошептала она, опустив глаза, – вы говорили мне, что не женаты. На все мои вопросы об этом окружающие меня люди отвечают молчанием… Когда я увидела, что вы приставили ко мне разных учителей, я решила, что вы хотите научить меня всему тому, что составляет очарование французских дам, и – почему мне следует об этом молчать? – я подумала, что любима вами.
Она вздохнула и бросила быстрый взгляд на Гонзага, чьи глаза выражали удовольствие и восхищение.
– И я училась, – продолжала она, – чтобы стать достойнее и лучше; работала с жаром и прилежанием. Ничто меня не пугало. Казалось, нет такого препятствия, которое могло бы поколебать мою волю. Вы улыбаетесь? – произнесла она с подлинным гневом. – Святая Дева, не улыбайтесь так, принц, вы сведете меня с ума!
Она встала перед ним и тоном, не допускающим уклончивых ответов, спросила:
– Если вы меня не любите, то чего вы от меня хотите?
– Я хочу сделать вас счастливой, донья Крус, – ласково ответил Гонзаг. – Счастливой и могущественной.
– Сначала сделайте меня свободной! – закричала взбунтовавшаяся прекрасная пленница. – И, поскольку Гонзаг пытался ее успокоить, повторила: – Сделайте меня свободной! Свободной, свободной! Мне этого достаточно, я ничего больше не хочу. – Потом, дав волю своей фантазии, она добавила: – Я хочу Париж! Париж, какой вы мне обещали! Этот шумный и блестящий Париж, который я угадываю из своей темницы! Я хочу выходить на свободу, повсюду показываться. Зачем мне наряды в четырех стенах? Посмотрите на меня! Не думаете ли вы, что я стану угасать в слезах? – Она громко расхохоталась. – Посмотрите, принц, вот я и утешилась. Я никогда больше не буду плакать, стану всегда смеяться, лишь бы мне показали Оперу, о которой я столько слышала, празднества, танцы…
– Сегодня вечером, донья Крус, – холодно перебил ее Гонзаг, – вы появитесь в самом богатом туалете.
Она бросила на него вызывающий и одновременно любопытствующий взгляд.
– И я, – добавил Гонзаг, – отвезу вас на бал к господину регенту.
Донья Крус замерла, словно оглушенная. Ее очаровательное подвижное лицо то бледнело, то краснело.
– Это правда? – спросила она, так как все еще сомневалась.
– Правда, – ответил Гонзаг.
– Вы это сделаете! – воскликнула она. – О, я вам все прощаю, принц! Вы добрый, вы мой друг.
Она бросилась ему на шею, потом, оставив его, стала прыгать, словно безумная. Танцуя, она приговаривала:
– Бал у регента! Мы отправимся на бал к регенту! Пусть стены будут толстыми, сад холодным и пустынным, окна закрытыми. Я слышала о балах у регента, я знаю, что там можно увидеть настоящие чудеса. И я, я буду там! О, спасибо, спасибо, принц! Если бы вы знали, как вы красивы, когда добры! Это ведь в Пале-Рояле, не так ли? И я, умиравшая от желания увидеть Пале-Рояль, побываю там?
Из угла комнаты, где она стояла, девушка одним прыжком подскочила к Гонзагу и упала на колени на подушечку возле его ног. Затем с совершенно серьезным видом спросила, скрестив прекрасные руки на колене принца и пристально глядя на него:
– А что мне надеть?
Гонзаг с рассеянным видом покачал головой.
– Есть нечто, донья Крус, – ответил он, – что на балах при французском дворе украшает девушек лучше самых изысканных туалетов.
Донья Крус попыталась угадать.
– Улыбка? – предположила она, как ребенок, которому загадали простую загадку.
– Нет, – ответил Гонзаг.
– Грация?
– Нет, у вас есть и улыбка, и грация, донья Крус, а я говорю вам…
– О том, чего у меня нет? И что же это?
И, поскольку Гонзаг медлил с ответом, она добавила, уже с нетерпением в голосе:
– Вы мне это дадите?
– Дам, донья Крус.
– Но чего же у меня нет? – спросила кокетка, бросая при этом торжествующий взгляд в зеркало.
Разумеется, зеркало не могло дать ей ответ, который дал Гонзаг:
– Имени!
И вот донья Крус низвергнута с вершин радости. Имя! У нее нет имени! Пале-Рояль – это не Пласа Санта за Алькасаром, где она плясала под звуки баскского бубна, с поясом, увешанным колокольчиками. О, бедная донья Крус! Гонзаг дал ей обещание, но обещания Гонзага… И потом, разве можно дать имя? Похоже, принц прочитал ее мысли.
– Если бы у вас не было имени, моя дорогая девочка, – сказал он, – самая нежная моя привязанность была бы бессильна. Но ваше имя лишь потерялось, и я нашел его. Ваше имя – одно из самых знатных во Франции.
– Что вы говорите? – воскликнула обескураженная девушка.
– У вас есть семья, – продолжал Гонзаг торжественным тоном, – могущественная семья, породнившаяся с королями. Ваш отец был герцогом.
– Мой отец! – повторила донья Крус. – Вы сказали «он был герцогом»? Значит, он умер?
Гонзаг склонил голову.
– А моя мать? – Голос бедной девочки дрожал.
– Ваша мать принцесса, – ответил Гонзаг.
– Она жива! – вскричала донья Крус, чье сердце замерло. – Вы сказали «она принцесса»! Моя мать жива! Прошу вас, расскажите мне о моей матери!
Гонзаг приложил к губам палец.
– Не сейчас, – прошептал он.
Но донья Крус была не из тех, на кого таинственный вид производит впечатление. Она схватила Гонзага за руки.
– Вы расскажете мне о моей матери немедленно! – потребовала она. – Господи, как я буду ее любить! Она ведь очень добрая, правда? И очень красивая? Странно, – перебила она себя, – я всегда мечтала об этом. Какой-то голос мне подсказывал, что я дочь принцессы.
Гонзагу было очень трудно сохранить серьезный вид.
«Все они одинаковы», – подумал он.
– Да, – продолжала донья Крус, – засыпая по вечерам, я всегда видела мою мать, склонившуюся над моим изголовьем, ее длинные черные волосы, жемчужное ожерелье, гордые брови, бриллиантовые серьги в ушах и такой нежный взгляд! Как зовут мою мать?
– Вы пока не должны этого знать, донья Крус.
– Почему это?
– Большая опасность…
– Понимаю! Понимаю! – перебила она его, внезапно охваченная каким-то романтическим воспоминанием. – В Мадриде я видела в театре комедии пьесу, там все точно так же: девушке никогда не называли сразу имя матери.
– Никогда, – подтвердил Гонзаг.
– Большая опасность, – повторила донья Крус. – Однако я умею молчать! Я сохранила бы эту тайну до конца своих дней!
Она встала, прекрасная и гордая, как Химена[30].
– Не сомневаюсь, – сказал Гонзаг. – Но вам не долго придется ждать, дорогое дитя. Через несколько часов тайна имени вашей матери будет вам раскрыта. А в данный момент вы должны знать лишь одно: вас зовут не Мария де Санта-Крус.
– Мое настоящее имя было Флор?
– Тоже нет.
– Как же меня звали?
– Вы получили в колыбели имя вашей матери, которая была испанкой. Вас зовут Аврора.
Донья Крус вздрогнула и повторила:
– Аврора! – И добавила, хлопнув в ладоши: – Вот ведь странный случай!
Гонзаг внимательно посмотрел на нее, ожидая, что еще она скажет.
– Почему вы так удивились? – все-таки спросил он.
– Потому что это редкое имя, – задумчиво ответила девушка. – Я вспомнила…
– Кого вы вспомнили? – с тревогой перебил ее Гонзаг.
– Бедную маленькую Аврору! – прошептала донья Крус, и глаза ее наполнились слезами. – Она была такой доброй! И хорошенькой! Как я ее любила!
Гонзаг явно прилагал огромные усилия, чтобы скрыть свое лихорадочное любопытство. К счастью, донья Крус полностью предалась своим воспоминаниям.
– Вы знали, – осведомился принц, напустив равнодушную холодность, – девушку, которую звали Аврора?
– Да.
– Сколько ей было лет?
– Моего возраста; мы были еще детьми и нежно любили друг друга, хотя она была счастлива, а я бедна.
– Давно это было?
– Много лет назад. – Она посмотрела в глаза Гонзагу и удивилась: – Но почему это вас интересует, господин принц?
Гонзаг принадлежал к числу тех людей, которых невозможно застигнуть врасплох.
– Меня интересует все, что вы любите, дочь моя. Расскажите мне о вашей подруге Авроре.
Глава 7
Принц де Гонзаг
Спальня Гонзага, отличавшаяся роскошью и при этом великолепным вкусом, как и весь дворец, граничила с одной стороны с небольшим помещением, служившим будуаром, который вел в малый салон, где мы оставили наших дельцов и дворян; а с другой она сообщалась с библиотекой, которая не знала себе равных в Париже по богатству и количеству книг.
Гонзаг был очень образованным человеком, знал латынь, читал произведения великих писателей Афин и Рима, при случае мог показать глубокие познания в теологии и философии. Будь он порядочным человеком, затмил бы всех. Однако именно порядочность отсутствовала в числе его достоинств. Но чем сильнее человек, не признающий для себя никаких нравственных ограничений, тем более уклоняется он с верного пути.
Он был как те принцы из сказок, что рождаются в золотых колыбелях в окружении добрых фей, дарящих счастливому малышу все, что может дать человеку славу и счастье. Но одну фею забыли пригласить; та является рассерженная и говорит: «Ты сохранишь все дары, полученные от моих сестер, но…»
И этого «но» достаточно, чтобы маленький принц оказался несчастнее последнего нищего.
Гонзаг был красив, богат, принадлежал к знатному и могущественному дому, обладал храбростью, что не раз доказал на деле; он был образован и умен, очень немногие владели словом так, как он, его дипломатические таланты были общеизвестны и признавались королем, все при дворе находились под его обаянием, но… Но у него не было ни совести, ни моральных принципов, и прошлое тиранически управляло его настоящим. Он уже был не волен остановиться на скользком пути, на который ступил в молодости. Роковым образом он был вынужден скрывать и замалчивать свои давние преступления. Этот человек был бы силен и могуществен в добре, так же как был неудержим во зле. После двадцати пяти лет битв он еще не чувствовал усталости.

