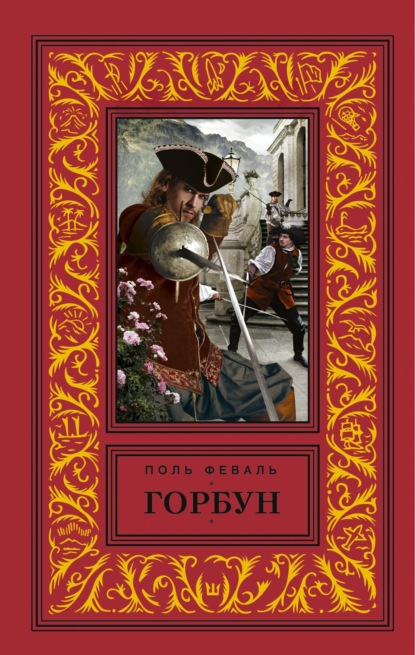
Полная версия:
Горбун
Что касается угрызений совести, Гонзаг в них не верил, как не верил в Бога. Нам нет нужды объяснять читателю, что донья Крус была для него всего лишь орудием, очень ловко подобранным орудием, которое, по всей вероятности, должно было работать без осечек.
Гонзаг выбрал эту девушку не случайно. Он долго колебался, прежде чем остановиться именно на ней. Донья Крус обладала всеми качествами, о которых он мечтал, включая некоторое внешнее сходство, конечно, очень отдаленное, но достаточное, чтобы равнодушные люди могли произнести столь драгоценные слова: «фамильное сходство». Это сразу же придает подлогу невероятную правдоподобность. Но появилось одно обстоятельство, которое Гонзаг не мог учесть в своих расчетах. В момент их разговора, несмотря на неожиданное признание, сделанное им донье Крус, более взволнован был все-таки он, а не она. Гонзагу понадобился весь его опыт дипломата, чтобы скрыть смущение. И все же, несмотря на его самообладание, девушка заметила его волнение и удивилась.
Последняя реплика принца, какой бы ловкой она ни была, заронила в душу доньи Крус сомнение. В ней проснулись подозрения. Женщине не нужно понимать, чтобы насторожиться, достаточно почувствовать. Но что же могло так взволновать этого сильного человека, известного своим хладнокровием? Одно имя: Аврора… Что в нем такого? Во-первых, как сказала наша прекрасная затворница, имя это редкое; во-вторых, виноваты предчувствия. Это имя действительно поразило его. И теперь суеверного Гонзага смущало само ощущение силы полученного удара. Он говорил себе: «Это предупреждение!» Предупреждение от кого? Гонзаг верил в звезды, во всяком случае в свою звезду. Звезды обладают голосом; его звезда заговорила. К растерянности принца, вызванной этим случайно произнесенным именем – о, это может иметь серьезнейшие последствия, – примешивалось нечто кроме удивления. Он нашел то, что искал восемнадцать лет! Он встал, под предлогом того, что хочет закрыть окно из-за сильного шума в саду, но в действительности затем, чтобы успокоиться и придать лицу равнодушное выражение.
Его спальня находилась в углу, образованном левым крылом фасада дворца, выходящим в сад, и главным жилым корпусом. Напротив были окна апартаментов принцессы де Гонзаг, закрытые плотными шторами. Донья Крус, видя движение Гонзага, тоже встала и хотела подойти к окну. Это было лишь проявление детского любопытства.
– Останьтесь, – велел ей Гонзаг. – Вас пока не должны видеть.
Под окном, на всей площади разоренного сада, колыхалась оживленная толпа. Принц даже не взглянул на нее, его мрачный задумчивый взгляд задержался на окнах жены.
«Придет ли она?» – мысленно спросил он себя.
Надувшаяся донья Крус вернулась на свое место.
«Однако, – продолжал внутренний разговор с собой Гонзаг, – битва будет по меньшей мере решающей».
Потом он подумал: «Чего бы это ни стоило, я должен знать…»
В тот момент, когда он собирался вернуться к своей юной собеседнице, ему показалось, что он узнал в толпе смешного маленького человечка, чья эксцентрическая фантазия произвела сенсацию сегодня утром в салоне, – горбуна, приобретшего собачью конуру. Горбун держал в руке Часослов и тоже смотрел на окна госпожи де Гонзаг. При любых других обстоятельствах принц, вероятно, обратил бы внимание на этот факт, ибо обычно не упускал из виду даже мелочей, но сейчас он был слишком занят другим… Если бы он постоял у окна еще минуту, то увидел бы следующее: по крыльцу левого крыла спустилась женщина, камеристка принцессы; она приблизилась к горбуну, который быстро сказал ей несколько слов и передал Часослов. Потом камеристка вернулась в покои принцессы, а горбун исчез.
– Этот шум подняли два моих новых арендатора, они поссорились, – объяснил Гонзаг, садясь возле доньи Крус. – На чем мы остановились, дорогое дитя?
– На имени, которое я должна отныне носить.
– На вашем имени, Аврора. Но что-то нас сбило с темы. Что это было?
– А вы уже забыли? – спросила донья Крус с лукавой улыбкой.
Гонзаг притворился, будто вспоминает.
– Ах да! – воскликнул он. – Конечно, мы говорили о девушке, с которой дружили и которая тоже носила имя Аврора.
– Красивая девушка, сирота, как и я.
– Правда? Вы встретились в Мадриде?
– В Мадриде.
– Она была испанкой?
– Нет, француженкой.
– Француженкой? – переспросил Гонзаг, великолепно изображавший равнодушие.
Он даже подавил легкий зевок. Вы были бы уверены, что он поддерживает разговор на эту тему лишь из снисходительности. Вот только вся его хитрость пропала даром; шаловливая улыбка доньи Крус должна была предупредить его об этом.
– Кто же о ней заботился? – произнес он с рассеянным видом.
– Одна старая женщина.
– Я понимаю; но кто платил дуэнье?
– Один дворянин.
– Тоже француз?
– Да, француз.
– Молодой или старый?
– Молодой и очень красивый.
Она смотрела ему прямо в лицо. Гонзаг притворился, будто сдерживает второй зевок.
– Но почему вы разговариваете о вещах, которые вам скучны, принц? – смеясь, воскликнула донья Крус. – Вы не знаете того дворянина. Никогда бы не подумала, что вы так любопытны.
Гонзаг понял, что надо быть осторожнее.
– Я не любопытен, дитя мое, – ответил он, меняя тон. – Вы меня еще не знаете. Конечно, меня не интересуют ни эта девушка, ни этот дворянин, как таковые, хотя у меня много знакомых в Мадриде; но, когда я спрашиваю, у меня есть на то причины. Вы не могли бы назвать мне имя того дворянина?
На этот раз прекрасные глаза доньи Крус выразили настоящий вызов.
– Я его забыла, – сухо ответила она.
– Думаю, если бы вы захотели… – с улыбкой настаивал Гонзаг.
– Повторяю вам: я его забыла.
– Послушайте, собравшись с мыслями, вы… Постараемся вместе.
– Но зачем вам имя того дворянина?
– Давайте постараемся вспомнить, прошу вас. Вы поймете, зачем оно мне. Его, часом, звали не…
– Господин принц, – перебила девушка, – как бы я ни старалась, я все равно не вспомню.
Это было сказано так решительно, что всякая настойчивость становилась невозможной.
– Не будем больше об этом, – вздохнул Гонзаг. – Обидно, вот и все, и я объясню вам, почему это обидно. Французский дворянин, живущий в Испании, может быть только изгнанником. К сожалению, таких много. Здесь у вас нет подруги вашего возраста, мое дорогое дитя, а дружбу не так просто приобрести. Я подумал: у меня есть влияние при дворе, я добьюсь помилования для того дворянина, который сможет привезти сюда девушку, и моя дорогая маленькая донья Крус больше не будет одинока.
Его слова звучали так искренне, что бедная девушка была растрогана до глубины сердца.
– Ах! – вскрикнула она. – Как вы добры!
– Я не злопамятен, – улыбнулся Гонзаг. – Еще не поздно назвать мне его имя.
– О, я даже не смела вас просить о том, что вы мне предлагаете, хотя умирала от желания сделать это! – сказала донья Крус. – Но вам нет необходимости знать имя того дворянина и не нужно писать в Испанию. Я видела мою подругу здесь.
– Недавно?
– На днях.
– Где же?
– В Париже.
– Неужели? – воскликнул Гонзаг.
Донья Крус больше не бросала ему вызов. Гонзаг продолжал улыбаться, но был бледен.
– Господи! – рассказывала девушка, хотя ее об этом не просили. – Это произошло в день нашего приезда. Когда мы проехали заставу Сент-Оноре, я спорила с господином де Пейролем: хотела открыть шторы, которые он упорно держал закрытыми. Объезжая дом неподалеку отсюда, карета задела за стену. Господин де Пейроль держался рукой за шторку, но он убрал руку, потому что я сломала о нее мой веер. Я узнала голос и подняла занавеску. Моя маленькая Аврора, все такая же, только еще красивее, стояла у окна в комнате с низким потолком.
Гонзаг вынул из кармана дощечки для записей.
– Я вскрикнула, – продолжала донья Крус. – Но карета уже набрала ход. Я кричала, вырывалась! Ах, если бы у меня хватило сил задушить вашего Пейроля!
– Вы говорите, – перебил ее Гонзаг, – что это случилось на улице неподалеку от Пале-Рояля?
– Совсем рядом.
– Вы ее узнаете?
– О! – улыбнулась донья Крус. – Я знаю, как она называется. Я первым делом спросила это у господина де Пейроля.
– И как же она называется?
– Улица Шантр. Но что вы пишете, принц?
Действительно, Гонзаг набросал несколько слов на дощечке.
– Все, что необходимо, чтобы вы смогли найти вашу подругу, – ответил он.
Донья Крус вскочила, порозовев от удовольствия, с сияющими глазами.
– Вы такой добрый! – повторила она. – Вы по-настоящему добрый!
Гонзаг сложил свои дощечки и встал.
– Дорогое дитя, скоро вы сможете в этом убедиться, – ответил он. – А теперь мы должны ненадолго расстаться. Вам предстоит присутствовать на одной торжественной церемонии. Не бойтесь показать там ваше смущение или волнение – это естественно, вас никто не осудит.
Он подошел и взял руку доньи Крус.
– Самое позднее через полчаса вы увидите вашу мать.
Донья Крус прижала ладонь к сердцу.
– Что я ей скажу? – пробормотала она.
– Не скрывайте от нее несчастий вашего детства, не скрывайте ничего, слышите? Говорите только правду, всю правду.
Он поднял драпировку, за которой находился будуар.
– Пройдите сюда, – сказал он.
– Да, – прошептала девушка. – Я буду молить Бога за мою мать.
– Молитесь, донья Крус, молитесь. Это торжественный час вашей жизни.
Она вошла в будуар. Гонзаг поцеловал ей руку и опустил за ней драпировку.
– Моя мечта осуществляется! – подумала она вслух. – Моя мать – принцесса!
Оставшись один, Гонзаг сел за стол и обхватил обеими руками голову. Ему нужно было собраться: в его мыслях царила сумятица.
– Улица Шантр! – прошептал он. – Одна ли она? Или он последовал за ней? Это было бы дерзко. И она ли это? – Секунду он сидел неподвижно, уставив взгляд в одну точку, потом воскликнул: – В этом и надо удостовериться в первую очередь!
Гонзаг позвонил. Никто не ответил. Он позвал Пейроля по имени. Снова молчание. Гонзаг встал и быстро прошел в библиотеку, где его доверенный человек обычно ждал его приказов. Библиотека была пуста. Лишь на столе лежала записка, адресованная Гонзагу. Он распечатал ее. Записка была написана рукой Пейроля и содержала следующие слова: «Я приходил; мне нужно было многое вам сказать. В павильоне произошли странные вещи». Ниже, в виде постскриптума: «Кардинал де Бисси у принцессы. Я слежу». Гонзаг смял записку.
– Все они, – прошептал он, – станут говорить ей: «Придите на совет ради вас самой, ради вашего ребенка, если он жив…» Она насторожится, но не придет. Это мертвая женщина! А кто ее убил? – перебил он себя, побледнев и опустив глаза.
Помимо собственной воли он размышлял вслух:
– Какой она была гордой! И красавица из красавиц; нежная, будто ангел, храбрая, как рыцарь! Это единственная женщина, которую я мог бы полюбить, если бы был способен любить женщину!
Он выпрямил спину, и на его губах вновь появилась скептическая улыбка.
– Каждый за себя! – сказал он. – Разве моя вина, что подняться на определенный уровень можно лишь по лестнице из чужих голов и сердец.
Поскольку он вернулся в спальню, его взгляд остановился на драпировке будуара, в котором скрылась донья Крус.
«Она молится! – подумал он. – Ну что ж, я почти завидую вере в эту чушь, что именуется голосом крови. Она была взволнована, но не слишком, как будто является настоящей дочерью, которой сказали: «Сейчас ты увидишь свою мать!» Маленькая цыганка мечтала только о бриллиантах и о праздниках. Волка не приручишь!»
Он приложил ухо к двери будуара.
«Как она молится! – заметил он. – По-настоящему! Вот ведь странная вещь! Все эти дети случая держат в дальнем закоулке своего мозга мысль, появляющуюся у них с первым зубом и умирающую с последним их вздохом, мысль, что их мать – принцесса. Все они, странствуя с котомкой на спине, ищут своего отца – короля. Эта девочка очаровательна, – продолжал размышлять он, – настоящая куколка! Как она мне послужит, сама того не ведая! Если бы простая крестьянка, ее настоящая мать, пришла бы сегодня и раскрыла ей объятия – черт побери! – девчонка покраснела бы от гнева. Мы зальемся слезами, слушая рассказы о ее детстве. Комедия проникает во все области жизни…»
На столе у него стоял хрустальный графин, полный испанского вина, и бокал. Он налил себе и выпил.
– Ну что ж, Филипп! – сказал он, садясь перед разложенными бумагами. – Это большая игра! Крупная партия! И богатая ставка! Миллионы банка Лоу могут, подобно цехинам из «Тысячи и одной ночи», превратиться в опавшие листья, а огромные земельные владения Неверов – это надежно!
Он стал приводить в порядок свои заблаговременно приготовленные записи, мало-помалу его лицо мрачнело, как будто им овладевала страшная мысль.
«Не надо строить иллюзий, – вздохнул он и отложил работу, чтобы снова подумать. – Месть регента будет безжалостной. Он легкомысленный, забывчивый, но Филиппа де Невера помнит, ведь он любил его, как брата; я видел слезы на его глазах, когда он смотрел на мою жену в трауре, на мою жену, которая является вдовой Невера! Но как я все устроил! За девятнадцать лет ни один человек не обвинил меня!»
Он провел тыльной стороной руки по лбу, как бы отгоняя эту навязчивую мысль.
«Все равно, – заключил он. – Я и это устрою. Я найду виновного, а когда того покарают, дело будет закрыто, и я смогу спать спокойно».
Среди лежавших перед ним бумаг, которые почти все были зашифрованы, имелась одна со следующим текстом: «Узнать, считает ли госпожа де Гонзаг свою дочь мертвой или живой». И ниже: «Узнать, у нее ли свидетельство о рождении».
«Для этого нужно, чтобы она пришла, – подумал Гонзаг. – Я бы отдал сто тысяч ливров только за то, чтобы узнать, у нее ли свидетельство о рождении, или даже за то, чтобы убедиться, что этот документ существует, если – да, то я его заполучу! И кто знает? – продолжал он, увлекаемый возрождающимися надеждами. – Кто знает? Матери немного похожи на этих ублюдков – тем повсюду мерещатся их родители, а эти в любом видят свое дитя. Я совершенно не верю в непогрешимость материнского чутья. Кто знает? Возможно, она раскроет объятия моей цыганочке… Ах, черт возьми, вот это была бы полная победа! Празднества, торжества, банкеты! Даже Te Deum[31], если пожелаете! И – привет наследнице Невера!»
Он рассмеялся, а когда закончил, произнес:
– Потом, через некоторое время, молодая и красивая герцогиня может умереть. Сколько юных девушек умирает! Общий траур, надгробная речь, произнесенная архиепископом. А мне, мне, черт возьми, по закону достанется огромное наследство!
Часы на церкви Сен-Маглуар пробили два. Этот час был назначен для начала семейного совета.
Глава 8
Вдова Невера
Конечно, нельзя сказать, что благородному дворцу Лотарингского дома было предначертано судьбой стать притоном дельцов; однако надо признать, и расположен, и построен он был крайне удачно для этой цели. С трех сторон – сад, выходящий на улицы Кенкампуа, Сен-Дени и Обри-ле-Буше, куда вели основные выходы. Дворец, пожалуй, стоил в золоте веса массивных гранитных глыб своих ворот. Разве это место не более подходило для ярмарки, чем даже сама улица Кенкампуа, всегда грязная и застроенная жуткими халупами, где часто убивали торговцев? Сады Гонзага были призваны лишить трона улицу Кенкампуа. Все это предсказывали, и случайно все оказались правы.
Уже целые сутки шли разговоры о покойном Эзопе I. Старый солдат гвардии по имени Грюэль и по прозвищу Кит попытался занять его место, но Кит был ростом шесть с половиной футов – это было ему затруднительно. Сколько бы Кит ни сгибался, его спина все равно была слишком высока, чтобы служить удобным пюпитром. Вот только Кит в открытую объявил, что сожрет заживо любого горбуна, который посмеет составить ему конкуренцию. Эта угроза останавливала столичных владельцев горбов. Кит обладал таким ростом и силой, что мог проглотить их всех, одного следом за другим. Он не был злым парнем, но выпивал ежедневно по шесть – восемь кувшинов вина, а вино в 1717 году стоило дорого. Надо же было Киту зарабатывать себе на жизнь.
Когда же горбун, отхвативший собачью конуру, пришел вступить во владение своим приобретением, в саду Невера много смеялись. Вся улица Кенкампуа сбежалась посмотреть на него. Его сразу же прозвали Эзоп II, и его спина с очень удобно расположенным горбом пользовалась огромным успехом. Но Кит недовольно ворчал, как и Медор, собака Гонзага.
Кит сразу же увидел в Эзопе II удачливого соперника. Поскольку с Медором обошлись так же плохо, как с ним, двое обиженных объединились. Кит стал покровителем Медора, который показывал свои длинные зубы всякий раз, когда видел нового жильца своей конуры. Все это предвещало трагедию. Никто ни секунды не сомневался, что горбун станет добычей Кита. Следовательно, чтобы не отступать от библейской традиции, ему дали второе прозвище – Иона. Многие люди с самой прямой спиной не имеют такого длинного имени. Однако это было нелишним: Эзоп II, он же Иона, элегантно и точно выражал идею о горбуне, съеденном китом. Это была целая надгробная речь, сложенная заранее.
Но Эзоп II, похоже, не слишком беспокоился по поводу ожидавшей его страшной участи. Он обжил свою конуру, в которую поставил маленькую скамеечку и сундук. Если подумать, то Диоген в своей бочке, которая была амфорой, устроился похуже. А в Диогене, как уверяют все историки, было пять футов шесть дюймов.
Эзоп II опоясывался веревкой, на которую вешал грубый полотняный мешок. Он купил доску, чернильницу и перья. Это было все, что требовалось ему для работы. Завидев, что стороны близки к заключению сделки, он скромно приближался, как его покойный предшественник Эзоп I, обмакивал перо в чернила и ждал. Для заключения сделки он клал доску на горб, на доске раскладывали бумаги и подписывали их с такими же удобствами, как в конторе. Сделав это, Эзоп II брал в одну руку чернильницу, в другую – доску. На доску ему клали «подарок», который в конце концов перекочевывал в полотняный мешок.
Строгого тарифа не существовало. Эзоп II, в подражание своему предшественнику, брал все, за исключением медных монет. Но кто же на улице Кенкампуа пользовался медью? Медь в эти благословенные времена служила лишь для приготовления окиси, чтобы травить ею богатых дядюшек.
Эзоп II крутился тут с десяти часов утра. Около часа пополудни он подозвал одного из многочисленных торговцев холодным мясом, бродивших по этой ярмарке бумаги. Горбун купил добрый каравай хлеба с золотистой корочкой, пулярку, на которую было любо-дорого посмотреть, и бутылку шамбертена. Чего вы хотите? Его промысел процветал.
Его предшественник так не роскошествовал.
Эзоп II сел на свою скамейку, разложил еду на сундуке и сытно пообедал на глазах у спекулянтов, которые терпеливо ждали, пока он закончит. У живых пюпитров есть один недостаток – они должны есть. Но представьте себе: перед конурой выстроилась длинная очередь, однако никому и в голову не пришло использовать широкую спину Кита. Гигант, вынужденный пить в кредит, поглощал в два раза больше вина и ворчал. Прибившийся к нему Медор в ярости скалил зубы.
– Эй, Иона! – кричали со всех сторон. – Ты скоро?
Иона был добрым малым: он отсылал просителей к Киту, но им был нужен только Иона. Подписывать контракт на его горбу было одно удовольствие. И потом, Иона не лез за словом в карман. Эти горбуны, знаете ли, такие остряки! Его шутки уже цитировали. Так что Кит выслеживал соперника, чтобы расправиться.
Закончив обед, Эзоп II крикнул своим тоненьким голоском:
– Эй, солдат, хочешь моего цыпленка?
Кит был голоден, но зависть удерживала его.
– Маленький мерзавец! – закричал он, а Медор, лежавший рядом, завыл. – Ты что, принимаешь меня за пожирателя объедков?
– Тогда пришли сюда твою собаку, солдат, – миролюбиво заметил Иона. – И не оскорбляй меня.
– Ах, тебе нужна моя собака! – взревел Кит. – Ты ее получишь, получишь!
Он свистнул и скомандовал:
– Фас, Медор! Фас!
Вот уже пять или шесть дней Кит натаскивал пса в саду. К тому же бывают такие симпатии, что зарождаются с первого взгляда: Медор и Кит быстро поладили. Медор хрипло зарычал и бросился вперед.
– Берегись, горбун! – закричали дельцы.
Иона ждал собаку, твердо стоя на ногах. В тот момент, когда Медор уже готов был ворваться в свою бывшую конуру, словно наступающая армия в завоеванную страну, Иона, схватив цыпленка за обе лапы, что было сил стукнул им собаку по морде. И – о чудо! Вместо того чтобы разозлиться, Медор принялся облизываться. Его язык ходил туда-сюда, собирая кусочки мяса, застрявшие в шерсти.
Сия стратегическая хитрость была встречена взрывом громкого хохота. Сотня голосов закричала одновременно:
– Браво, горбун! Браво!
– Медор, мерзавец, фас! – вопил гигант.
Но подлый Медор окончательно предал его. Эзоп II купил его ударом куриного окорочка. Видя это, гигант пришел в неописуемую ярость и в свою очередь бросился к конуре.
– Ах, Иона! Бедняга Иона! – хором закричали торговцы.
Иона выбрался из конуры и, посмеиваясь, встал лицом к Киту. Кит схватил его за шкирку и оторвал от земли. Иона продолжал смеяться. В тот момент, когда Кит собирался швырнуть его оземь, все увидели, как Иона изогнулся, приставил мысок туфли к колену гиганта и отпрыгнул, словно кошка. Никто не смог бы точно сказать, как именно это произошло, но бесспорным фактом являлось то, что продолжающий смеяться Иона оказался сидящим на толстой шее Кита. По толпе пробежал долгий одобрительный шепоток.
– Солдат, – спокойно сказал Эзоп II, – проси пощады, не то я тебя задушу.
Побагровевший гигант, весь в поту и в пене, извивался, пытаясь освободить шею. Эзоп II, видя, что противник не просит пощады, сжал колени. Гигант высунул язык. Было видно, как он стал пунцовым, потом посинел; похоже, у этого горбуна были сильные мускулы. Через несколько секунд Кит изрыгнул последнее ругательство и придушенным голосом попросил о пощаде. Толпа ахнула. Иона сразу же разжал ноги, легко спрыгнул за землю, бросил на колени побежденному золотую монету и побежал за своими доской, перьями и чернильницей, весело крича:
– Ну, купцы, за дело!
Аврора де Келюс, вдова герцога де Невера и супруга принца де Гонзага, сидела в прекрасном кресле с прямой спинкой, сделанном из черного дерева, как и вся мебель в ее молельне. Ее одежда и обстановка помещения были выдержаны в траурных тонах. Платье, простое до крайности, очень подходило к месту ее уединения.
Это была комната с квадратным сводом, четыре грани которого окружали центральный медальон, нарисованный Эсташем Лезюером в характерной для его позднего творчества аскетической манере. На мебели из черного дуба, без позолоты, висели красивые гобелены на религиозные сюжеты. Между двумя окнами был поставлен алтарь. Алтарь траурный, как будто последняя служба, которую на нем служили, была поминальной мессой. Напротив алтаря висел портрет Филиппа де Невера в полный рост, написанный, когда герцогу было двадцать лет. Автор портрета Миньяр изобразил герцога в его мундире генерал-полковника швейцарской гвардии. Вокруг рамки был обвит черный креп. Несмотря на христианские символы, это немного напоминало убежище вдовы-язычницы. Принявшая крещение Артемиза не могла бы более блистательно отправлять культ своего покойного супруга царя Мавзола. Христианство требует большей покорности в горе и меньшего пафоса. Но как редко вдов упрекают в нарушении этих требований! Впрочем, не следует терять из виду и особенное положение принцессы, уступившей силе, выходя замуж за господина де Гонзага. Этот траур был как бы флагом отделения и сопротивления.
Вот уже восемнадцать лет Аврора де Келюс был женой Гонзага, но можно сказать, что совершенно его не знала; она ни разу не пожелала ни заговорить с ним, ни выслушать.
Гонзаг делал все, что мог, лишь бы побеседовать с ней. Несомненно, что Гонзаг был в нее влюблен, может быть, любил даже сейчас, пусть и по-своему. Он был высокого мнения о себе – и обоснованно. Будучи уверен в силе своего красноречия, думал, что стоит принцессе согласиться выслушать его – он победит. Но принцесса, непоколебимая в своем горе, не желала утешения. Она была одинока в жизни, и это одиночество ей нравилось. У нее не было ни друзей, ни доверенных подруг, и даже исповедник знал лишь о ее грехах, но не более. Она была гордой женщиной, чья душа ожесточилась от страданий. В ее окаменевшем сердце сохранилось единственное живое чувство – материнская любовь. Она страстно, одержимо любила память о своей дочери. Память о Невере была для нее как бы религией. Мысль о дочери воскрешала и дарила смутные надежды на будущее. Всем известно, какое глубокое влияние оказывают на нас материальные предметы. У принцессы де Гонзаг, вечно одинокой – даже ее прислуге запрещалось с ней разговаривать, – постоянно окруженной немыми мрачными картинами, ослабели и ум, и чувства. Порой она признавалась священнику, который ее исповедовал:



