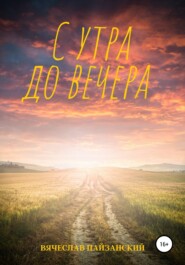 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Выхода нет
1. Думы и пути
Койранский ехал в Москву, ехал учиться в Московском университете. Он был принят, по его просьбе, на юридический факультет, о чем узнал еще летом, извещенный университетом.
Почему Койранский выбрал юридический факультет?
Кончая гимназию, он знакомился с программами варшавских высших учебных заведений, в том числе со всеми факультетами университета, и пришел к заключению, что только юридический факультет дает наибольшую сумму общеобразовательных знаний, которых ему не могла дать гимназия.
Он хорошо понимал, что культура содержится не в односторонних специальных знаний и уж, конечно, не в званьях инженера, учителя, врача.
Он также понимал, что каждый специалист прежде, чем стать специалистом, должен стать культурным, т. е. впитать в себя все богатство человеческого духа, накопленное за тысячелетнее развитие человечества. В этом богатстве – полнота жизни, смысл ее и возможность служить человечеству.
Это – гуманизм! Да, только гуманизм, иначе жизнь ломаного гроша не стоит!
О своей будущей специальности Койранский не задумывался: не все ли равно, кем быть, на каком поприще трудиться!
Лишь бы приносить пользу людям!
Зато ему приходилось призадумываться над ближайшим будущим: он едет учиться, ему надо будет платить за это, надо жить в Москве, платить за квартиру, питаться, одеваться, обуваться, а откуда он возьмет на все это деньги?
Работать и учиться невозможно, не совмещается время, да и как он найдет в Москве работу, в незнакомом городе, где нет ни одного знакомого человека?
Эта задача казалась неразрешимой, и Койранский махнул на нее рукой. На первый год у него хватит денег – он заработал за лето 300 рублей. Он обут и почти одет, нет только зимнего пальто. Что же из этого? Можно проходить и в осеннем.
Москва! Какая она, русская столица? Первопрестольная и крамольная, город царских коронаций и баррикад 1905 года, город именитого купечкства и богатеев, город рабочего каторжного труда!
Как встетит она своего сына из далекой царской окраины?
Найдет ли для него ласковое слово матери или выбросит «на дно», как одного из люмпен-пролетариев?
В конце концов, такой исход ни у кого не вызовет душевной боли: он одинок и физически и духовно. Да, одинок!
Прожита такая короткая жизнь, а пережито, как за десятки лет.
В свои 20 лет он – духовный инвалид. Найдутся ли силы для новой жизни? Эта новая жизнь уже будет убогой: любить он уже не может, а без нее холодно и бесприютно! И к чему она, такая жизнь? Не лучше ли кончить ее, чтобы и следов ее не осталось? Вот сейчас выйти на площадку, открыть дверь вагона и прыгнуть в небытие. Сделать больно этой маменькиной дочке, легко разорвавшей чужую жизнь, как негодную тряпку. И пусть бы всю жизнь мучилась этой болью!
Пусть бы корчилась от этой боли! Но она же не узнает, никто не узнает. А если бы узнала, что тогда? Покачала бы головой и назвала дураком? Как тогда? «Я сделаю то же!»
Нет, не надо! Зачем? Она такая беспомощная, светлая, как ребенок! Ей надо жить, ее вся гимназия так любит!
А ты? Я тоже, очень, как свое сердце! Нет у меня ее, и нет сердца. Потеряно сердце. Как же я буду без сердца жить, без нее?
Ах да! Она не любит и не любила. Иначе, как же она смогла растоптать собственное чувство? Она обманывалась и обманывала. Она – чудовище без сердца, без души!
И на зло ей я буду топтать женскую любовь, как она растоптала мою! Буду топтать и чувствовать, что это ее чувства я топчу, ей причиняю боль, наступаю сапогом на ее сердце… Что больно?
Всю жизнь свою буду мстить и за всю жизнь еще не отплачу за мою боль.
Не умирать, нет! Надо жить, чтобы мстить! Надо быть сильным, гордым, непреклонным!
Я и без сердца проживу. За обман – обман, за боль – боль, за горе – горе! Без жалости, без раздумий!
Вот сидит внизу девчонка и о чем-то думает, верно, о любимом.
Сделать ей больно? Сказать, что любимый обманывает ее? В глазах мечтательность и счастье. А чем она лучше меня? Почему ей счастье, а мне боль? Кто предопределил это? Бог? Это он, как подарки, раздает одним радости, другим – горе? Он – изверг! Разве такой мог спасти род человеческий от греха, пострадать за него? А у него ни капли милосердия!
Вот испробую на этой девчонке, есть ли милосердие, пощадит ли бог эту невинную девочку, еще не слыхавшую слово «измена».
«Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Мои стоят, забыл завести вчера», спросил Койранский девушку, сидевшую на нижней скамейки вагона, заметив часы на ее руке.
«Сейчас – десять», ответила та.
«Спасибо!» – поблагодарил он, слез с верхней полке и сел напротив девушки.
«В Москву? Откуда? Не учиться ли?» – снова задал вопрос Койранский, с любопытством вглядываясь в глаза девушки.
«Да, еду в Москву, учиться, из Смоленска. Принята на Бестужевские курсы. Буду врачом», – охотно и даже весело заговорила она, узнавая в нем по форменной тужурке студента университета.
«И не страшно, что пока будете грызть в Москве гранит науки, ваш любимый в Смоленске вам изменит с другой?» – приступил он к выполнению своего плана.
Девушка покраснела и отвернулась.
Он с жадностью смотрел на нее: «Пусть помучается, пусть! За нее, за меня!» – думал Койранский.
А она, справившись со смущением, повернула к нему голову и спокойно сказала:
«Мне бояться нечего: мой муж никогда не сделает подлости и он меня любит. А вам, наверно, изменили? Едва только выросли, еще усов нет, а вы уже жертва? Да? Угадала?»
Койранский встал и, не ответив вышел на площадку.
Он стоял там почти два часа, куря папиросу за папиросой, лишь бы не возвращаться в вагон. Ему стало еще больнее от уверенности той, которую хотел уколоть сомненьем и болью, от ее правильного диагноза его болезни, от высказанной и сквозившей из ее глаз жалости.
«Так всю жизнь: сталкиваться со счастливыми и, молча, переживать свое несчастье. Открою сейчас дверь, и конец! Пусть уйдет кондуктор с площадки», решил Койранский.
А кондуктор не уходил и, когда поезд стал уменьшать ход, сказал, что подъезжаем к Лихославлю.
Койранскому на этой станции нужно было делать пересадку, т. к. он ехал не сразу в Москву, а сначала к брату Александру, жившему под Москвой, на станции Завидово.
Койранский вошел в вагон, стал собирать свою постель, другие вещи. Шатенка молчала и даже не смотрела на него, И он боялся на нее взглянуть.
Когда поезд остановился и Койранский, захватив вещи, пошел к выходу, девушка с глазами, полными жалости, сказала:
«До свиданья в Москве. Желаю вам быть сильным и не сгибаться от тяжестей».
Потом, высунувшись из окна, крикнула ему вдогонку:
«Молодость все побеждает! Бодритесь!»
«Больно, ох, как больно! Она, верно, по глазам моим узнала. Надо глаза прятать. И надо действительно сбросить с себя это настроение!» – мелькали в голове Койранского мысли девушкой-смолянкой.
2. Устройство и первые впечатления
В Центральной России Койранский никогда не был, и ему было все интересно: природа, люди, обычаи. Он рассуждал: «Я – русский, а не знаю своего народа. Он кажется мне не таким, каким я его представлял. А может, я не умею определять? Я думал, что я на него похож. Ан, нет! Я – другой! Меня коснулась западная культура, сделала меня отщепенцем!» Это напрвление мыслей Койранского не вязалось, однако, с его настроением.
Поведенье, даже разговоры простого народа были ему не по душе: часто замелькавшие картины пьянства, беспрерывная ругань, густо пересыпавшая речь, – все казалось грубым, некрасивым, непонятным.
И от этого еще тяжелее было в душе Койранского, еще больнее от своего одиночества.
Брат, к которому приехал Койранский, примиренчески смотрел на все, что возмущало и тревожило приезжего. Он как бы считал это в порядке вещей и удивлялся вопросами младшего брата, который будто спрыгнул с другой планеты.
Это расхожденье всегда разделяло братьев и было одной из причин непонимания взглядов друг друга на жизнь и человеческие отношения. Уже на третий день почувствовал Койранский, что он сделал ошибку: ему не надо было приезжать к брату.
Брат Александр по специальности был лесовод. Он занимал должность лесничего под Москвой, что в то время считалось большой удачей. Сталкиваясь беспрерывно с народом от помещика-дворянина до крестьянина, от деревенского кулака до серелняка, качавшегося, как маятник, между всеми ими, Александр не выработал своей собственной ориентации. Наоборот, он взял от тех, среди которых вращался, их психологию: умен, кто умеет копеечку заколотить, уваженье тому, у кого она есть.
И Вячке Койранскому странно и неприятно было видеть эту, почти всеобщую, неприкрыто хищническую физиономию.
У брата была большая семья, состоявшая из жены Марии Дмитриевны, и пятерых детей, от 8 лет до 2-х месяцев.
Он нанимал большой дом с флигелем, баней и усадьбой в пристанционном поселке станции Завидово. Во флигеле помещалась канцелярия лесничества.
Первые же разговоры с братом показали Койранскому, что брат имел на него свои виды: он хотел сделать его учителем и воспитателем своих детей.
«Ты будешь жить у меня, будешь бесплатно питаться, одеваться и ездить на лекции в Москву, когда найдешь это нужным. А в свободное время будешь заниматься со старшими сыновьями, исподволь готовить их в гимназию».
Вячка Койранский сначала испугался той роли, которую предназначал ему брат. Он пока не сказал ни да, ни нет: нужно было побывать в Москве, в университете, разведать, как можно там устроиться.
И на четвертый день Койранский поехал в Москву, куда было три часа езды поездом.
Он оформился в университете, уплатил первый взнос за ученье, поговорил с товарищами, уже имеющими соответствующий опыт, походил по улицам, где обыкновенно селились студенты – Большие и Малые Грузины, Бронные, Моховая, Воздвиженка и по прилегающим к ним переулкам. Он рассчитал, что денег, привезенных с собой хватит на полгода, если не покупать ничего, кроме книг.
Съездив на знаменитую тогда Сухаревку, рынок, где торговали всем, чем угодно, обманывали и обворовывали, едва не сделавшись жертвой шайки воров, Койранский поспешил обратно в Завидово.
Тяжело и неприятно было первое впечатление от Москвы.
Жить здесь? Где разденут, и не заметишь?
Нет, в Москве устраиваться нельзя. Или уехать обратно в Варшаву, или согласиться на предложение Александра. Эту дилемму надо решать и, как можно, скорее!
И Койранский решил: дорога в Варшаву ему запрещена, «я не унижусь до того, чтобы вымаливать благосклонность Бельской. Для нее меня нет, и никогда не будет! Значит, надо обосновываться у брата, в Завидово, надо соглашаться на его предложения».
И он сказал брату, что остается в Завидове, хотя это очень неудобно для университетских занятий, но в Москвен он не хочет жить: она ему не приглянулась после Варшавы.
Опыт занятий с детьми у Койранского был и он незамедлительно приступил к этой работе. Ребята очень доверчиво и охотно выполняли указания своего учителя, и успех был обеспечен.
Доверье их и дружба с ними еще более укреплялись постоянным общеньем. Вне занятий Койранский читал им сказки, рассказывал разные приключения, гулял с ними, развлекал их и направлял их поведенье и поступки в нужную сторону.
К двум старшим мальчишкам примкнули и младшие девочка и мальчуган.
Таким образом, Койранский незаметно превратился в гувернера всех детей брата. Они привязались к нему, и без него и прогулки, и игры стали им скучны.
В университет Койранский ездил все реже и, в конце концов, стал ездить только два раза в неделю: по четвергам на судебно-медицинские вскрытия трупов, так как присутствие на них и участие в них были совершенно обязательны, и по пятницам, так как вечером в этот день был обязательный семинар по истории римского права.
Само собой разумеется, в эти дни Койранский бывал на всех лекциях. Позднее Койранский стал оставаться на ночь с четверга на пятницу ночуя у кого-нибудь из товарищей. А в последние два года лекции слушались не менее четырех раз в неделю, чтобы лучше усвоить главные дисциплины: гражданское, уголовное и административное право.
3. Семья брата и развлечения Койранского
Многочисленная семья брата была построена на очень шатких основах.
Прежде всего, бросалось в глаза, что отношения мужа и жены ненормальны. Жена командовала, муж исполнял ее волю. Жена вовсе не считалась с мужем, не уважала его, называла его презрительно «Сашка». А он, очевидно, привык к такому отношению, не возмущался и старался отделаться от всех домашних дел, поменьше бывать дома, засиживаться в канцелярии лесничества и часто уезжал по лесничеству сразу на несколько дней.
Мария Дмитриевна очень скоро посвятила Койранского в секрет таких отношений с мужем. Она рассказывала, как ее насильно выдала замуж замужняя сестра, у которой она воспитывалась, и при помощи угрозы жениха застрелиться, если она не пойдет за него.
Бедная 17-летняя девушка-сирота попала в трудное положение и была вынуждена согласиться, так как единственная сестра тоже грозила отказаться от нее.
Маруся, став женой, без передышки рожала детей, благодаря чему ей некогда было думать о чем-либо, кроме вскармливания детей и ухода за ними.
Шестеро детей за десять лет – такова смирительная рубашка, надетая Александром на жену.
Она поняла этот отвратительный метод усмиренья и еще больше возненавидела мужа.
А он освободил ее от всяких работ по дому, окружил ее кухарками и няньками, которыми она и командовала в своей золотой клетке.
Она по своему единоличному усмотрению расходовала его деньги, сама производила все покупки, без него, ездила для этого в Москву и в Тверь. Завидово было как раз на середине между ними.
В результате такой многолетней жизни Маруся стала диктатором, причем очень капризным и бесцеремонным, отвыкла от всякого труда, от чтенья книг; ее не интересовала ни жизнь народа, ни новости литературы и театра, а все, что она вынесла после учения в пансионе, за несколько лет растеряла.
Детей она любила, но чисто животной любовью; она с ума сходила, если ребенок заболеет, но оставалась равнодушной, если он не выучит урока или плохо написал диктант.
Она читала детям сказки, любила это занятие, но больше для себя, чем для детей, и, конечно, многого не могла объяснить детям.
Тем не менее, ее время целиком было занято детьми, так как ни хозяйством, если не считать руководства, ни каким-либо рукоделием не занималась.
Отец семейства, наоборот, решительно никакого интереса к детям не проявлял и не занимался ими, разве жена невзначай положит ему на руки сверток с грудным ребенком или посадит на руки ему неожиданно для него малыша, приказав: «Поняньчи немного!»
И хозяйственными делами он также не занимался и не интересовался ими. Не было случая, чтобы он принес охапку дров или помешал дрова в печке. Зачем? Это все делала прислуга, да лесник, живший при лесничем, используемый конюхом при собственном коне лесничего и для других услуг по дому. За это он получал, кроме казенного жалованья и обмундирования, бесплатные квартиру и питание.
Вячка был четвертым для услуг в этом доме, как гувернер и воспитатель детей, которым грозило бы одичание и привитие психологии и навыков окружающих их невежественных нянек, лесника и кухарки. Исполняя добросовестно принятые на себя обязанности, Вячка тем не менее скоро заскучал в этом доме, хотя отношение к нему всех домочадцев было очень хорошим, даже теплым, хотя в доме были книги художественной литературы, хотя весь день безотрывно он был занят с детьми.
Но вечера были скучными: все было переговорено, все оставшиеся в памяти анекдоты рассказаны, а убежденья свои, диаметрально противоположные убежденьям брата, повторять Вячке не хотелось из-за вспыхивавших приэтом крупных разговоров на грани ссоры, а это было уже совсем скучно.
Как-то, гуляя с ребятами в парке, окружавшем дом, Койранский увидел во дворе соседней дачи крупную красивую женщину, по одежде крестьянку.
Расспросив лесника, что это за женщина, Койранский узнал, что это кухарка живущего в соседнем доме Алексея Ивановича Кузнецова, богача, владельца большого посудо-фарфорового завода где-то за Москвой. Ему было сказано, что эта женщина, по имени Евгения, является не только кухаркой, но и любовницей Кузнецова.
Скоро Койранский увидел и самого Кузнецова, простого мужика, пьяницу, каждый вечер напивавшегося в трактире и возвращавшегося с громкой пьяной песней домой.
«Когда б имел златые горы и реки полные вина» пел мужик-кулак, хозяйство которого в деревне велось с помощью брата и батраков, а на заводе наемным инженером и сотнями закабаленных мужиков. И все соседи по даче знали, что, придя домой, он начнет кулачную расправу с женой, забитой, больной из-за него женщиной, и с прочими домочадцами.
Только Евгения, как говорили, могла остановить расходившегося пьяницу. Ее он беспрекословно слушался. Койранский много раз видел эту женщину и восхищался в душе ее красотой, какой-то одухотворенной и тонкой, удивительной в таком крупном по-мужицки скроенном теле, по-деревенски одетой, с возбуждающими формами.
Однажды Койранский, как всегда, когда дети укладывались спать, вечером пошел пройтись.
Возвращаясь с прогулки мимо кузнецовской дачи, он увидел сидящую на лавочке Евгению.
Не думая, что делает, Койранский сел рядом и сказал:
«Приятно посидеть рядом с красивой женщиной!»
Она промолчала. Койранский опять сказал:
«Чего же молчишь? Или жалко тебе твоей красоты, на которую хочу полюбоваться?»
И тогда она ответила:
«Эх, барин! И ты туда же! Пристаешь к женщине. Ай не стыдно? Дома хозяин проходу не дает, а выйдешь отдохнуть, молодой сосунок прицепляется!»
«Я к тебе не прицепляюсь, ничего от тебя не хочу. Мне просто очень приятно видеть твою красоту. Ведь на такую красоту молиться можно. Но если ты не хочешь, я могу уйти». – ответил Койранский и встал, чтобы уйти.
Она взяла его за руку и заставила сесть. Потом тихо так и виновато проговорила:
«Ты не серчай! Я глупая. Ежли ты без всяких глупостев, сиди, пожалуйста, гляди. Только немного разглядишь в темноте-то. А ты чей? Лесничев брат? Скудент? Долголь будешь жить у нас, в Завидове?»
Так завязался разговор, началось знакомство.
Почти каждый вечер он сидел с ней на лавочке, беседуя о семье Кузнецова, с ней, бобылке, вдове, уже 15 лет овдовевшей.
Ей было 40 лет, но возраст не замечался в этом красивом лице и крупной подвижной фигуре.
Койранского волновала близость этой женщины и его тянуло к ней, хотя ни одним словом, ни одним жестом он не показал ей своего влеченья.
Конечно, долго такие платонические отношения продолжаться не могли. Койранский это понимал. Нужно было решиться на сближение или на отказ от волнующих встреч.
Головой он понимал, что ни к чему хорошему связь с этой женщиной привести не могла, надо было взять себя в руки.
И он, после некоторой борьбы с собой, перестал приходить на лавочку, вообще перестал гулять по вечерам, занявшись чтеньем университетских предметов и художественной литературы.
Со дня своего приезда он не занимался поэзией. Обстановка была такова, что не создавалось поэтического настроения, да и писать было негде, и не хотелось раскрываться перед братом, с его очень прозаичной душой и такой же жизнью.
Две недели Койранский не видел Евгении, уже отвык от нее, но скучал по вечерам, чаще ездил в Москву и чаще оставался ночевать в Москве. Его не спрашивали дома, почему он остается в Москве на два, иногда на три дня, полагая, что так надо для его университетских занятий.
Раз, когда он вышел из вагона в Москве, его кто-то потянул за руку. Оглянулся, – Евгения, принаряженная, еще больше похорошевшая, видно от волнения.
«Барин, погодь на минутку», сказала она и отвела его из толпы в сторону. Они остановились. Евгения, не глядя на него, тихо сказала:
«Ты ушел от меня. Видно нагляделся. А я не могу. Что-то тянет меня к тебе. Вот, за тобой поехала. Ругай, не ругай, а бабе ты надобен! Где сустретимся?»
Она подняла голову. Глаза ее блестели каким-то удивительно мягким блеском и будто тянулись к Койранскому.
Он впервые видел ее такой, да еще днем. Волнение овладело юношей. Но он еще пытался сопротивляться.
«Здесь, в Москве, негде, разве на вокзале, да поздно вечером прогонят. Поезжай, милая, домой. Вечерком, как приеду, выйду посидеть», сказал Койранский, предполагая как-то рассеять опасность их сближения.
«Нет, барин, прошла пора сиденья. Или ты не хочешь меня миловать, целовать, не хочешь бабьих ласк?» – прошептала взволнованная женщина и, приблизив лицо свое к его лицу, часто-часто задышала. От ее дыханья исходил незнакомый, приятный, завлекающий запах. Она вся дышала страстью, и не могла не заразить юношу.
«Где же?» – так же шепотом произнес он и коснулся губами ее губ. И она в страстном порыве прильнула к нему, потом оторвалась, отошла немного и сказала:
«У меня здесь кума. Пойдем к ней. Чай, не прогонит! Эх, была не была. Пойдем!» И потянула Койранского за руку.
Они быстро шли пешком, она впереди, он – за ней, сзади.
Они пришли на Домниковскую улицу, вошли во двор одного дома, поднялись на второй этаж, постучались. Открыла девочка 10–12 лет. Она с размаху бросилась на шею тете Жене, своей крестной, и весело выкрикнула:
«Никого дома нет, все на работе. И я сейчас уйду в школу. Ты, тетя Женя, располагайся. Ключ можешь оставить у дверей под бочкой, когда будешь уходить. Чай вскипяти. А это кто?»
Евгения на вопрос не ответила.
Она деловито, как своя, взяла чайник, стоявший на шестке русской печки, зажгла керосинку и поставила чайник. Он был еще теплый и почти полный.
Девочка подала гостье ключ, чмокнула ее в щеку и выпорхнула.
Евгений и Койранский остались одни.
Здесь встретились страсть не молоденькой уже женщины и темная развращенность юноши.
4. Цена денег
Страсть Евгении разгоралась все сильнее. Свиданья теперь заканчивались на сеновале при доме Кузнецова и были настолько продолжительными, что Койранский являлся домой, когда все уже в доме спали. Один лесник караулил легкий стук молодого человека.
Но тайное недолго оставалось тайным.
Слух о связи лесничева брата с Евгенией кузнецовской быстро распространился и через прислугу дошел до жены брата Койранского.
Она, кажется, и удивлялась, и негодовала. И не вытерпела, чтобы не сделать ему замечание.
Как-то в воскресенье днем все были в парке. Дети лепили снежную бабу, а Маруся с Койранским учили их, наставляли, как сделать глаза, рот, губы и так далее.
Вдруг Маруся спросила Койранского:
«Где ты бываешь так долго по вечерам, ночью домой являешься?»
«Это вас не касается!» – дерзко ответил тот.
«Как это не касается? Позорные слухи ползут о тебе. Связался со шлюхой. И тебе не стыдно?!» – вспылила Маруся.
«Я еще раз прошу не касаться моих дел, иначе брошу все и уеду от вас», не менее вспыльчиво ответил Койранский.
Я скажу Сашке, будешь с ним иметь дело!»
«Говорите хоть дьяволу!» – закричал Вячка и ушел домой.
Он ожидал разговора с братом и продолжал ходить на свиданья.
Но приехал брат, прошло дней десять, а разговора с братом по жалобе Маруси не поднимался.
И до Кузнецова дошли слухи о поведении его кухарки. И его очень задели эти слухи. Он ругал Евгению, ходил на сеновал проверять, но к этому времени свиданья были перенесены на сеновал брата.
Кузнецов решил действовать напрямую.
Он, встретив Койранского в калитке дома лесничего, подошел к нему и громко сказал:
«Господин скубент! Позвольте на момент!»
Койранский остановился.
«Ваша барынька, лесничева супруга, просили меня уберечь вас от Женьки. И что вам занадобилась эта баба? Брось ее к чертовой матери, поищи себе помоложе! Слышишь скубент?» – говорил Кузнецов.
«А вам-то что за дело? Кого хочу, того люблю, и вы мне не указ и не дело лесничева жене соваться, куда не просят!» – с досадой ответил Койранский.
Но Кузнецов не отставал.
«Я ее в жены возьму, скубент, богатой сделаю. А ты – щелкопер. Твоя любовь, как ветер. Да и по годам она тебе в матери годна. Честью тебя прошу, брось ее».
Койранский засмеялся.
«Это при живой-то жене? В любовницы ее метишь?»
«Господом богом прошу, брось Женьку! Хочешь, денег дам, только брось!» – каким-то отчаянным голосом закричал Кузнецов.
В голове Койранского промелькнула комбинация: взять с Кузнецова деньги, много денег, чтобы уехать в Москву и жить там до конца университета.
«Сколько дашь?» – вырвалось у него.
«Тысячу рублев!» – не задумываясь, предложил богач.
«Мало! Смеешься ты, что ли? Давай десять!» – определил Койранский сумму.



