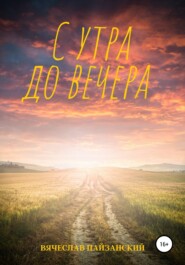 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Койранский стал систематически посещать лекции в университете, а по вечерам заниматься, благо Сашутка старалась к его приходу нагреть комнату, держа открытой дверь в кухню.
Но спокойствия не знала душа Койранского. Деньги быстро таяли. Как он будет жить дальше? Питанье обходилось в день около тридцати копеек, иногда и подороже.
Нужно было, по указанию хозяина, купить для него полбутылки вина, хозяке – фунт рожков, а Сашутке – фунт карамели. И через неделю у Койранского была уже только половина полученных от брата денег, а через две – оставалась четверть.
Товарищи посоветовали ему на товарной станции Казанского вокзала поискать работу. Работа нашлась: разгрузка вагонов.
Вместо университета 4 дня из 6 – труд физический, дававший около двух рублей в неделю.
Надо было экономить на обеде, который и так стоил недорого в студенческой столовке на Моховой улице. Экономия состояла в том, что не каждый день покупались два блюда, а иногда, вместо обеда, посидев за столом, заталкивался в карманы брюк и пальто черный и белый хлеб, наполнявший огромные плетеные хлебницы, расставленные по столам. Это были самые дешевые дни: хлеб доставался бесплатно, кипяток дома был бесплатный, только заварка чая, на весь день одна ложечка. Так что голода Койранский не знал.
Но забота о завтрашнем дне грызла его. К тому же Сашутка стала приставать:
«Купи, махонькай, карамели! Не купишь, холодно будет в комнатке».
Пришлось купить, а через несколько дней еще.
Вообще Сашутка вела себя нагло. Она часто валялась на кровати Койранского. Постельное белье, по его просьбе, не меняла, говоря: «Кому стирать? Мне стирать! Обойдется!»
Носильное белье подходило к концу. Сашутка знала о накопившемся грязном белье, но ничего не предпринимала. Раз Койранский сказал ей: «Куча грязного белья накопилась. Мне уже смениться нечем. Выстирала бы, Сашутка!»
«Эх, ты, ловкай!» – возразила Сашутка.
«Небось, когда я лежу, не желаешь ко мне прилечь, а белья требуешь!» – продолжала она.
«Зачем мне к тебе ложиться? Что я, маленький?» – прикидывался непонимающим Койранский.
«Дурак ты, дурак!» – уверяла Койранского девушка-великанша.
«Другой бы накинулся, как на сахар, а ты не знаешь зачем! Полежи, узнаешь. А мне того и надо. Батяня с маманей войдут, иконой благословят. И тогда, сколько хошь, валяться будем. И свадьбу справим, глупый!» – выдала механику ловли мужа неумная Сашутка.
Койранский стал остерегаться, меньше бывал дома, приходил поздно, бывая у товарища по Варшавской гимназии, Смыклинского, который недавно перевелся из Варшавского университета.
Все-таки однажды рано утром Сашутка влезла к спящему Койранскому в кровать и стала целовать его. Он проснулся, вскочил.
«Уходи сейчас же, а то съеду от вас сегодня же!» – громко кричал Койранский, возмущенный нахальством Сашутки.
Она испугалась крика его, послушно встала и с жалостью сказала: «Махонькай, а сладкай!» – и ушла.
В следующую ночь был инсценирован арест Койранского товарищами Смыклинского, медиками.
Три дня Вячка прожил у Смыклинского, который жил со своей сестрой в одной комнате. А потом нашлась комната на Больших Грузинах, тоже в квартире извозчика только богатого, содержателя ломового извоза.
Но прожил у него Койранский только неделю. В один весенний, пригожий день к нему приехала Маруся, узнавшая в факультетской канцелярии адрес Вячки.
Она сразу заявила:
«Сашка уехал от нас. Едем домой. Надо заниматься с Колей. Ему осенью держать экзамен. Будем жить в Клину».
«А где брат?» – поинтересовался Койранский.
«Он перенес канцелярию лесничества на Фланденовскую фабрику, около села Козлово. Там он уже живет», проинформировала Маруся.
Не хотелось Койранскому снова принимать на себя роль мужа и отца семейства, но делать было нечего: у него оставалось в кармане несколько копеек, куча грязного белья, ни одной смены чистого и экзамены в университете, к которым надо было серьезно готовиться.
Или работать на разгрузке вагонов, добывая деньги, или готовиться к экзаменам, живя только одним хлебом, воровски добываемым в студенческой столовке.
«Что же, ехать, так ехать! Только схожу в университет. Ты подожди часика два, отдохни», просил Койранский.
«Раньше вещи сложи, а потом иди. Хозяину я сама скажу. Сколько должен ему? Я расплачусь».
«Ничего не должен. Уплатил за месяц вперед» – похвастался он.
В тот же день вечером Койранский опять был в Завидове, опять потянулись дни занятий с детьми, вечерние занятия по подготовке к экзаменам и ночные прогулки с Марусей по улице поселка.
8. Университет
Реакционная царская политика удушения в стране всего живого наложила свою омерзительную лапу и на высшие учебные заведения России.
Московский университет, славившийся прекрасным профессорско-преподавательским составом, образцовой постановкой преподавания и подготовки специалистов, почему из университета выходили знающие, культурные и эрудированные врачи, педагоги, юристы, в те последние годы перед первой империалистической войной, захирел.
Лучший из всех университетов страны стал таким же, если не хуже, как все остальные.
Министр просвещения Кассо, ярый монархист, палочник и грубый, неотесанный невежа, понимал, что именно Московский университет является оплотом университетского образования в России, и ударил крепче всего по нему.
Лучшие профессора и преподаватели в 1910–1912 годах были изгнаны из московского университета. Большинство перекочевало заграницу, где их охотно принимали, меньшинство, особенно маститые по возрасту, либо ушли в отставку, либо перешли в основанный в то время частный университет Шанявского и на разные частные женские курсы. При этом изгонялись в первую очередь те, кто по политическим взглядам были левее конституционно-демократической партии (кадетов, как называли тогда членов этой партии), и завоевавшие авторитет среди студенчества своими богатыми знаниями и интересными лекциями.
В университете остались кадеты и все правые, откровенные монархисты и ретрограды.
Было также обращено внимание на изменение студенческого состава. Если раньше доступ в университет был открыт всем желающим, прошедшим по конкурсу аттестатов, то с 1912 года производился строгий отбор по социальному положению: в университет безусловно не допускались дети рабочих, крестьян с земельным наделом меньше 10 десятин, а также мещан, не имеющих имущественного ценза.
Студенчество стало политически более надежным для царского правительства. Появилась каста «белоподкладочников», к которым себя причисляли студенты верноподданные царя-батюшки, сынки аристократов, заводчиков и купцов.
Они приезжали в университет на рысаках, сорили деньгами и свысока относились к прочим студентам. Они, конечно, были на виду у профессуры и пользовались ее благосклонностью.
И все-таки власти боялись студенческой массы. Без всякого законодательного акта, одним циркуляром министра, была отменена университетская автономия, устанавливавшая выборность студентами ректора, деканов и профессоров, позволявшая студентам объединяться в землячества и совещаться на сходках по студенческим делам.
Сходки студентов были строго запрещены под угрозой тюремного заключения и административной высылки «в места не столь отдаленные», с исключением из университета.
Но и этого было мало: в университет была введена полиция. В коридорах, во всех аудиториях, в анатомичке и в лабораториях с утра до вечера на табуретках, в углах, сидели полицейские, которым была предоставлена власть принимать репрессивные меры к студентам по своему усмотрению: предупреждать, задерживать, вызывать из полицейского участка наряд, если усмотрит такую «крамолу», которую сам не сможет пресечь.
И вот ежедневно студенты лицезрели «столпа порядка», как нечто, что должно было вселять в них благоразумие и любовь к царю и его сатрапам.
Был такой случай, когда Койранский учился еще на первом курсе. В один из очередных приездов его в университет сосед по скамье с утра шепотом сообщил ему, что в 12 часов дня у медиков состоится сходка, посвященная аресту десяти студентов 5-го курса за то, что они потребовали удаления полицейского из женской клиники, где они, как будущие гинекологи, дежурили.
Койранскому очень хотелось побывать на сходке. И он с соседом к 12 часам явились в помещение медфака, находившееся рядом с юрфаком. Там они узнали, что в одном из коридоров, когда полицейский пойдет сменяться, состоится получасовая сходка.
Сходка началась ровно в 12 часов. Выступавшие требовали освобождения арестованных товарищей и выработали письменное обращение к ректорату и к градоначальнику. Когда дописывались последние строки обращения, раздались крики: «Полиция! Полиция!»
Действительно, наряд полиции, человек в 20, подходил к дверям коридора. Все бросились к двери, Койранский с товарищем побежали в обратную сторону, свернули в узенький коридор-закоулок, увидели дверь с надписью «Библиотека». Они вбежали в библиотеку. Библиотекарша догадалась, конечно, в чем дело. Она сунула им по книжке и приказала: «Внимательно читайте!» Тишина была нарушена через 10 минут.
Открылась дверь, вошли два полицейских. Они накинулись на студентов: «На сходке были? Говорите!»
«На какой сходке?» – прикинулись незнающими оба товарища.
Библиотекарша подтвердила, что студенты в библиотеке с утра и никуда не выходили.
«Ваши входные билеты!» – потребовали полицейские.
«Их у нас нет, сдали на прописку», отговорились студенты.
Входные билеты служили тогда студентам, как паспорта.
«Как фамилии?» – продолжали допрашивать блюстители порядка.
«Я – Куц», сказал один.
«А я – Цук», сказал другой.
«Не видишь, смеются! Пошли! Ну их к…», нецензурно выругался один из них, и полицейские ушли.
Так Койранский избежал большой неприятности от первой виденной им студенческой сходки.
Впоследствии он не раз бывал на сходках по всяким поводам собиравшимся как в здании университета, так и вне его. Но эта сходка крепко запечатлелась в сознании Вячки.
Говорили, что тогда было арестовано восемь студентов, высланных административно в Вологодскую и Олонецкую губернии.
Еще Койранский часто вспоминает свалку студентов с полицией в 1915 году, когда профессор Струве защищал диссертацию на звание доктора права.
Его официальным оппонентом был доцент Байков, ярый монархист. Он выступил с обвинением Струве в плагиате:
«Целыми разделами списано сочинение Петра Струве из…», следовало перечисление авторов и их трудов, откуда, по докладу оппонента, заимствовал Струве мысли и их выражения.
Это утверждение вызвало бурю негодования. Студенты поняли выступление Байкова, как выпад против кадета. Они стали стучать ногами и руками, кричать: «Байкова вон! Стыдно! Убирайся, не то вытащим!»
Вмешалась полиция. Наиболее рьяных крикунов схватили за руки. За них заступились другие. Свалка продолжалась около 20 минут и закончилась печально: до 30 студентов арестовали и выслали из москвы.
Койранский не участвовал в драке, своевременно покинув зал.
Таковы были порядки и нравы в университете в те годы.
И, естественно, Койранский, как поэт, не мог остаться равнодушным: он написал песню, которая была положена на музыку студентом-однокурсником его, Гиацинтовым, и долго распевалась студентами, переходя от старших к младшим:
Ой, вы годы!Ой, вы годы мои,Годы молодые!Как же вы подсеклиНоженьки родные!Свежей мысли зарюЗаперли замочком,А свободу моюСменили звоночком.Сел на шею ко мнеВорон чернокрылый,И клюет он во мглеКровь мою, постылый!Там, где знаньям ключомСледует струиться,Он большим сапогомБороздит по лицам!Ой, вы годы мои,Годы золотые,Годы светлой зари,Где вы, дорогие?Такие настроения студенческой массы, настроения пассивности и жалобы, скоро перешли в возмущения.
Когда началась первая империалистическая война и прошел угар патриотического безумия, студенты стали резко выступать против порядков в стране, против распутинских издевательств над ней, против бойни. Сотни студентов поплатились за это: были отданы в солдаты и отправлены на фронт.
Профессора и преподаватели, еще сохранившие совесть, стали покидать университет. Остались либо горькие пьяницы, либо выслуживающиеся перед третьим отделением (охранка).
Старый служитель-гардеробщик, прослуживший на юридическом факультете около 20 лет, Цимляков Григорий Кузьмич, которого студенты исстари привыкли называть «Цимля», говорил студентам не раз: «Смирились, господа студенты? Скоро по шее вас хлестать будут!»
«Подожди, Цимля! Придет наше время!» – отвечали ему негромко студенты.
Когда начались досрочные призывы студентов в армию, вся головка вожаков, самых смелых и энергичных, была изъята из университета, по указанию белоподкладочников.
Уныло было в студенческой среде. И тогда Койранский с Гиацинтовым написали бодрящую, веселую песню, назвав ее в честь студенческого болельщика «Цимля».
Эта песня живо завоевала права гражданства и стала любимой на вечеринках и гулянках:
«ЦИМЛЯ»Наш профессор Митюков Раньше пил коньяк Шустов,А теперь он льет в нутро Политуру и ситро.Припев:Цимля, Цимля, Цимля-ля Цимля-ля, Цимля-ляМы студенты Цимля-ля, Цимля-ля, Цимля-ля,Шалопаи, Цимля-ля, Цимля-ля, Цимля-ля!Наш профессор Гидулянов Предводитель хулиганов,А профессор Кайгородов – Украшенье огородов!Оба чашу пьют до дна, До последнего глотка,Ловят чертиков потом На столе и под столом!Припев.А профессор Петро Струве Скачет радостно на стуле:Похвалил его тайком Подполковник Глотколом[1]И, конечно, без сомненья Все «святое» отделенье!Припев.Наш декан, профессор Райский Обожает нос жандармский,Служит верно, аки пес, Лижет смачно грязный нос!Припев.А доцент Тотомианц Перед ним имеет шанс:Посадил уже в тюрьму Он ребят наших уйму!Припев.Эту песню всем студентам Петь бы, пользуясь моментом,А придет белоподкладка, Берегись, будет не сладко!Припев.В обеих песнях Койранского очень выпукло показано, каким был Московский университет в годы, когда в нем учился автор этих песен. Трудно было учиться в таких условиях, но еще труднее терпеть издевательства полиции и белоподкладочников.
9. Беженцы и переезд в Клин. Студенческий вечер
В Завидове началась прежняя жизнь. Маруся, сделавшая аборт, с прежней страстью любила Вячку и старалась опять заразить его, опьянить его.
И она добивалась своего. В немногие минуты отрезвления Койранский правильно оценивал свое неприглядное положение, мысленно искал выход, но не находил его. Казалось, Маруся читала мысли Койранского, и принимала все меры для его успокоения. А когда видела, что он задумывается, говорила ему:
«Имей ввиду, что без тебя я жить ни дня не останусь. Лучше в могилу, чем без тебя. Без тебя я бы попала опять к Сашке в кровать. Нет, лучше смерть!»
Такие неоднократно повторявшиеся утверждения, заставляли Койранского покоряться обстановке и бросать думы о разрыве с Марусей. И он старался забыться в труде: усердно занимался с ребятами, гулял с ними, играл, шалил, после своих весенних экзаменов часто ходил с ними в лес по ягоды и грибы.
Брат приезжал редко.
В июне неожиданно ухудшилась международная обстановка, а в июле началась война с Германией и Австо-Венгрией.
Скоро в Завидово начали приезжать родные из западных губерний. Они бежали от войны, захватив с собой то немногое, что могли захватить.
Приехал брат Петр с женой и двумя мальчиками, сестры Бышко с дочкой и Давидович с дочкой, Рогова, беременная первым ребенком, и незамужняя сестра Любовь. Народа собралось много.
Надо было всех накормить, всем найти место для спанья.
Александр, приехавший в Завидово, опять принял на себя роль хозяина, но ничего не делал реального для беженцев.
Вся тяжесть выпала на Марусю, ей помогал Вячка.
Она очень гостеприимно отнеслась к родне, охотно приняла на себя все хлопоты, и все были устроены.
Через некоторое время приехала еще семья Барковых, семья сестры Койранского Надежды, из 6 человек.
Супружеские отношения Вячки с Марусей, конечно, были прерваны, и у него появилась новая надежда, что, с приездом родни, Маруся примирится с мужем, а ему удастся, с помощью брата и сестер, переехать в Москву и навсегда обрести свободную самостоятельность. Но его предположение не сбылось.
Беженцы переехали в город Клин и там осели, а Александр возвратился в Козлово.
Отношения Койранского со снохой стали известны всей родне.
Об этом позаботился Александр. Но никто из родни не счел необходимым вмешаться в это дело. Напротив, все отшатнулись от этих двоих, как от зачумленных. В августе и семья Маруси, а с нею и Койранский, переехали в Клин, где стал учиться старший мальчик Коля, блестяще выдержавший экзамены в реальное училище.
И здесь, в Клину, окончательно выяснилось, что по сговору всей родни с 1914 года Вячка Койранский и Маруся исключены из состава семьи, с ними перестали здороваться и на их приветствия не отвечали.
Как-то по делу Вячка был в реальном училище. На лестнице он встретил брата Петра, работавшего там учителем, подошел к нему, протянул руку. Но Петр не принял его руки и, отвернувшись, довольно громко произнес:
«Ты мне не брат!»
Такое отношение родных воспрепятствовало обращенью к ним Койранского за помощью, оно навсегда оставило его связанным с семьей Александра.
Этот беспримерный бойкот длился 26 лет; он теснее связал Вячку с Марусей и утвердил их нигде не зарегистрированный брак, их долгую совместную супружескую жизнь.
Но в самом начале 1915 года Койранский сделал еще одну попытку оставить Марусю. Он написал Александру и просил помочь ему в этом. Он просил только сто рублей и просил сейчас же переехать в Клин, чтобы воспрепятствовать Марусе что-нибудь сделать над собой. Ответ был совершенно неожиданный.
«Живи, как жил. Маруся мне не нужна».
В то время она была беременна, а в феврале родился второй сын Вячки.
После рождения ребенка и удостоверившись, что муж больше не будет добиваться восстановления своих супружеских прав, Маруся заявила Вячке, что она не станет возражать, если он уйдет от них.
То ли она видела, что Койранский тяготится навязанным ему браком, то ли убедилась, что муж к ней действительно не вернется, Вячка ей стал уже ненужен.
А у него не было денег и он не хотел просить их у Маруси, поняв, что был простым орудием в схватке между мужем и женой. Койранский нашел выход: после весенних экзаменов, в июне, он явился к Московскому уездному воинскому начальнику и попросился в армию. Он имел отсрочку до окончания образования. Теперь он перешел на последний курс, а потому в приеме в армию ему было отказано.
Когда о своей неудаче он рассказал Марусе, она как будто обрадовалась:
«Что ж, живи с нами. Я и дети любим тебя. Будь им отцом!»
Затруднения теперь возникли из-за отсутствия средств для уплаты в университете, так как тех денег, что получала Маруся на детей, едва-едва хватало, чтобы заплатить за большую квартиру в Клину и на питание.
Даже на одежду для детей уже не хватало ресурсов, так как, вследствие войны, жизнь очень вздорожала.
Койранский обратился за помощью в общество помощи студентам, легально существовавшее при университете Шанявского. Оно распространяло свою деятельность на все высшие учебные заведения Москвы. Койранскому была назначена и выдана субсидия в размере 60 рублей.
Общество изыскивало денежные средства разными путями: обращением к известным богачам, принятием на себя разных работ за деньги, устройством студенческих вечеров.
На один из таких вечеров Койранскому удалось попасть.
Он состоялся в помещении английского клуба, на Неглинной.
Устроители вечера привлекли многих артистов московских театров, которые бесплатно выступали на вечере, как певцы, декламаторы и рассказчики.
Но главный доход на вечере был собран не за билеты, хотя цена была достаточно высока, а от продажи виноградных вин, коньяка, папирос и разных сувениров. Цены за рюмку, за папиросу, за пустяковую безделушку были сумасшедшими. Так, рюмка портвейна стоила 5 рублей, одна папироса – 30 копеек и так далее. Эта распродажа производилась в нескольких фойе.
Прогуливаясь, в красиво оформленном павильоне, продававшем вино, Койранский увидел девушку, кого-то и что-то ему напоминавшую. Он несколько раз прошел мимо, но так и не вспомнил ничего.
Он сел на диване напротив этого павильона и следил за работавшей девушкой, у которой было много работы, так как народ у киоска не уменьшался.
Неожиданно к нему подошел незнакомый студент и сказал:
«Товарищ, вас хочет видеть продавщица вин, подойдите к ней».
«Это какая-то ошибка. Я ее не знаю. Она, наверно, кого-то другого зовет», ответил Койранский.
Тогда студент взял Койранского под руку и повел к киоску.
«Я тоже ее совсем не знаю, но выполняю просьбу этой милой девушки», сказал студент.
Он подвел Койранского к киоску и откланялся, проговорив:
«Ваше поручение выполнил, прекрасная маркиза!»
Подойдя к киоску, Койранский увидел на стене табличку, на которой было написано: «Маркиза Закревская».
Девушка отворила дверь в киоск и пригласила его: «Входите, садитесь!» Койранский вошел, посмотрел на девушку и сейчас же вспомнил: та, с которой ехал в Москву, которую хотел смутить, но был посрамлен ею. Она, работая говорила:
«Вы ведь вспомнили меня? Помните, вагон и ваше настроение, и ваш наскок на мое спокойствие?»
«Помню», смущенно ответил Койранский.
«Я рада видеть вас невредимым и не в военной форме. Расскажите, как вы жили и живете, на каком курсе и факультете?» – забрасывала она вопросами, растерявшегося было Койранского.
Он отвечал и наблюдал за проворными руками девушки, успевавшими и рюмки наливать, и деньги принимать, и сдачу давать.
Одновременно она беседовала с Койранским, как со старым знакомым. Она говорила:
«А знаеие, я вас тогда надула из тактических соображений. Никакого мужа у меня не было и нет. Вы уж простите меня за это. Мне было стыдно за эту ложь, но я вас не встречала и не могла извиниться. Кроме того, очень мне хотелось знать, как вы справились со своим горем. Если не против, скажите».
«Я его поборол, хотя мне еще и сейчас трудно. Пусто в душе и бесприютно ей. Не стоит об этом». Койранский, почему-то правдиво передавший Закревской свое душевное состояние, чувствовал необъяснимое доверие к этой девушке. Ему приятно было и ее извинение и интерес к нему. Уже давно некому было заглянуть в его душу, и ее вопросы были искренни и выражали сочувствие.
Она пристально посмотрела на него и тихонько сказала:
«Значит, ничего не изменилось? Так надо понимать вас?»
Койранский не успел ответить. В зале раздались слова «Гаудеамус», студенческого гимна, и так громко, что нельзя было разговаривать. Закревская села рядом и пела со всеми, а Койранский молчал.
Вдруг совсем неожиданно «Гаудеамус» перешел в «Цимлю».
У киоска появился Гиацинтов, с которым Койранский пришел на вечер. Увидя товарища, Гиацинтов позвал его. Койранский, извинившись вышел из киоска.
И тут его окружила толпа студентов и стала качать. Другая группа качала Гиацинтова.
Закончилось тем, что Койранского пришлось посадить на диван. Он был в полуобморочном состоянии.
Пенье прекратилось. Кто-то коньяком стал смачивать ему виски.
Очнувшись, Койранский увидел Закревскую с рюмкой и платком в руках. Он встал, поблагодарил и хотел уйти. Закревская шепнула ему: «Посидите, товарищ! Я бы хотела еще поговорить с вами. И вы еще не совсем в себе».
Вдруг большая толпа студентов неожиданно окружила Койранского и Закревскую. Подошел Гиацинтов, взял его под руку и повел из этого фойе, а потом в раздевалку и на улицу. И уж тут сказал, что полиция ищет студента, написавшего слова «Цимли»: ей кто-то сказал, что его качают, но фамилия ей неизвестна.
И его фамилия так и осталась неизвестной властям, как и фамилия композитора.
10. Последний студенческий год
Этот год был особенный. Он был для Койранского морально очень тяжелым. Если раньше проживание его в доме Маруси оправдывалось их взаимным чувством, то теперь, когда стало очевидным, что не чувство любви руководило Марусей, а чувство мести к бывшему мужу, положение Койранского стало невыносимым. Правда, Маруся не давала повода для умозаключения, к которому пришел Койранский, но все видел, все понимал и ничего не мог изменить.
Средств, чтобы уехать, у него не было. Все родные от него отвернулись. В армию его не взяли. Выхода у него не было.
Как пережить еще год?
Этот вопрос, а также душевная опустошенность, привели к решению, что ему не стоит жить.
И летом 1915 года Койранский сделал вторую попытку уйти из жизни. Это было 1-го августа. Он бродил по лесу с ружьем, как это он часто делал, когда жили в Козлове из-за детей, переехав из Клина на время каникул.



