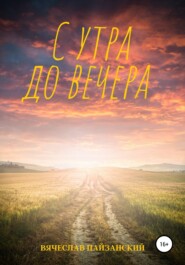 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
На просеке, далеко от жилья, Койранский увидел сосну с перекинутой кем-то для неизвестной цели веревкой и с готовой петлей. Может быть, кто-нибудь уже висел на этой сосне.
Совпадение его намерений с болтавшейся веревкой показалось Койранскому знаменательным.
Он подошел к сосне, надел на себя петлю, повис, поджав ноги. Но вдруг упал до наступления удушения. Это не выдержала гнилая веревка. Долго лежал он на земле в состоянии какой-то странной бесчувственности, хотя мозг его лихорадочно работал.
Он не жалел, что неудачей закончилась его попытка, но и не радовался неудаче. Ему было безразлично.
Вечером он пришел в дом, шатаясь как пьяный.
Его встретила Маруся. По оставшемуся на шее красному кольцу она догадалась. Но Койранский не подтвердил ее догадки.
Тем не менее отношение к нему Маруси после этого случая, и особенно с возвращением в Клин, приобрело характер прежней страстности. Казалось, Маруся хотела отвлечь от его печальных дум, о которых она догадывалась, но не расспрашивала его.
В эту осень второй сын Маруси, Анатолий, поступил в реальное училище. Забота, где взять деньги для уплаты в университет, вновь привела Койранского в университет Шанявского. Но на этот раз ему было отказано за отсутствием в обществе достаточных средств.
В декабре был последний срок уплаты за 1-е полугодие.
Конечно, продав что-нибудь из домашних вещей, можно было добыть деньги. Но тогда еще ни Маруся, ни Койранский не умели так изворачиваться. И Койранский увидел свою фамилию в списке исключенных из университета за невзнос платы за ученье.
Полагался еще десятидневный льготный срок перед отобранием студенческого входного билета.
Когда этот срок истек, Койранский пришел в факультетскую канцелярию, чтобы сдать билет и получить документы. Он протянул свой билет факультетскому секретарю и сказал:
«Конец пришел моему образованию, Иван Потапыч! Возьмите входной и дайте мне, что полагается в этих случаях».
«За вас уплачено, смотрите в списке на стене», ответил тот.
И, обернувшись к стене, Койранский увидел свою фамилию зачеркнутой жирной красной чертой.
Он рассмотрел, что, начиная с первого, каждый десятый зачеркнут. Всего двадцать один человек был исключен таким образом из списка исключенных.
«Кто уплатил?» – с любопытством спросил Койранский.
«Богатый», ответил секретарь.
Он не сказал, кто именно уплатил, очевидно, соблюдая тайну жертвователя, по его желанию.
Говорили, что это сделал фабрикант Морозов. Койранский поблагодарил его открыткой, но ответа не получил.
Этот случай был для Койранского лекарством, взбодрившим его, излечившим от неверья к людям, от неверья в добро и в правду.
Он выразил обуревавшие его чувства стихотворением, оставшимся в памяти на всю жизнь:
«ЩЕДРОМУ ДРУГУ»Мой щедрый друг, благодарю!Ты сделал больше, чем хотел:Теперь я жизнь любить могуИ для хорошего прозрел.Ты показал мне доблесть века,Его добро и красоту,Ты подарил мне человекаИ благородную мечту.Теперь я стал богат, как Крез,Богат любовью к человеку,Для веры радостной воскресеньеИ с ней пойду я в свою «Мекку»!За второе полугодье деньги в университет были уплачены. Они были добыты путем продажи зимней шинели и ковра, проданных очень дешево скупщику старых вещей.
Выпускные государственные экзамены были назначены на сентябрь. Целое лето было в распоряжении Койранского для подготовки к экзаменам.
В апреле родилась дочь Койранского. Теперь у него уже было трое детей, кровно связывавших его с Марусей в одну семью.
Это пришлось проводить в деревне Носково, Дмитровского уезда, Московской губернии, куда был переведен Александр.
Уступая просьбам детей, Маруся согласилась сначала провести лето в Носково, апотом опять же из-за детей, переехать из Клина в уездный город Дмитров.
Мальчики, учившиеся в Клинском реальном училище, были переведены в Дмитровскую гимназию.
В начале августа вся семья переехала в Дмитров.
Александр сначала остался в Носково, где была канцелярия лесничества, а через некоторое время, после отъезда Вячки, поселился вместе со всей семьей в Дмитрове.
В конце сентября был закончен университет Койранским, но нормальному вступлению в жизнь мешала продолжавшаяся война.
11. Начало военной службы
Для этой войны нужен был младший офицерский состав, нужно было пополнение офицерского корпуса людьми со средним и высшим образованием. Этого требовали задачи войны и сохранение квалификации армии, за два года войны лишившейся больше половины кадрового офицерства.
Офицеры выпускались ускоренным порядком. Для этой цели курс военных училищ был сокращен с 2-х лет до 4-х месяцев и дополнительно открыто до 300 новых училищ, именовавшихся школами прапорщиков, выпускавших младших офицеров в первом офицерском чине прапорщиков, тогда как до войны военные училища выпускали подпоручиков.
Койранский был призван на военную службу в день получения диплома. Призыв был произведен через университет Московским уездным воинским начальником.
Он был отправлен с группой студентов разных высших учебных заведений, как окончивших, так и досрочно призванных, в город Нижний Новгород, теперь Горький, в 1-й Подготовительный учебный батальон. Маруся проводила его в Москву, но не дождалась отъезда, так как формирование эшелона продолжалось почти три дня; зачисленные в эшелон сосредотачивались на Курском вокзале в Москве.
Провожать эшелон пришло много москвичей, студентов, курсисток.
Были речи, были слезы, были песни.
Никакие силы не могли навести порядка, и военный комендант вокзала махнул рукой.
Перед отправлением поезда Койранский еще раз, в последний раз, встретился с Мариной Закревской.
Она, увидя его, подошла, крепко пожала руку и шепнула:
«От всего сердца желаю большого-большого счастья!»
Уже гремел «Гаудеамус», а рядом группой белоподкладочников запевался гимн «Боже, царя храни!» Где-то рядом пели «Цимлю» и новую песню «Хаара-кири», и старинную петербургского студечества «От зари до зари». В этом хаосе звуков, однако, не было энтузиазма, слышались отчаянье обреченных и тоска по молодой жизни.
Когда вагоны тронулись, Марина трижды прокричала:
«Надеюсь встретиться!» – и слезы капали из ее глаз.
В вагоне будущие воины затихли, кое-где негромко разговаривали, большинство замкнулось, переживая разлуку с привычным и любимыми и скачок в неизвестность в качестве пушечного мяса.
Но, как это всегда бывает, чувство молодости и присущая ему беспечность победили раздумья.
Всю дорогу до Нижнего не смолкали песни, разговоры и смех. Даже ночь не утихмирила будущих солдат.
А в Нижнем, уже на вокзале, где призванных встречали постоянные кадры батальона, потянуло духом солдатчины и дисциплины.
Здесь уже будущие воины поняли, что приходит конец студенческой вольнице.
Строем шли с вокзала в казарму, строем ходили в баню и в столовую, строем ходили на ученья и на прогулки.
Над строем властвовала команда и не полагалось, да и не было времени рассматривать, кто командует, в чьих руках твои поступки и жизнь.
Потекла однообразная солдатская жизнь, состоявшая в муштре и выколачивании из людей думающих и рассуждающих их индивидуальной воли.
Но трудно было выколотить ее, трудно культурных людей превратить в автоматов. Столкновенья были резкими, обидными и часто смешными.
Этих взрослых образованных людей часами учили поворачиваться направо, налево и кругом, учили ходить под счет каког-нибудь ефрейтора.
Ефрейторы и унтер-офицеры муштровали и наивно не замечали, что их ученики над ними смеются, когда по команде направо нарочно поворачивались налево или наоборот. Учителя полагали, что ученые люди не знают, где правая, а где левая рука, заставляли заучивать и гневно говорили:
«Здесь вам ни «ниверситет», здесь думать надо!»
А за дружный хохот озорной вольницы злобствовали, наказывали двойной, тройной нагрузкой и усталостью.
Хорошо помнится один урок, преподанный вольному духу солдат из студентов.
Полурота, в составе которой был Койранский, возвращалась по городу с песней с учений. Командовал полуротой штабс-капитан Малинин, добродушный кадровый офицер, побывавший на фронте и контуженный в голову.
Полурота весело пела, предвкушая после утомительного ученья обед и послеобеденный отдых.
Пели популярную тогда юнкерскую песню «Военный и штатский». В ней говорилось, что девушки предпочитали военных. Был такой куплет: «Штатский такой скучный, просит дать портрет, а военный – душка принесет конфет».
Студенты его переделали, они пели вторую часть «а военный – душка лезет за корсет».
По дороге штабс-капитан встретил знакомую даму и шел с ней по тротуару, поспевая в ногу за идущей по улице полуротой.
Песня стала повторяться на переделанном куплете, с подчеркиванием неприличного места.
Штабс-капитан крикнул: «Отставить песню!» Но песня продолжалась. Второго и третьего приказания полурота будто не слышала.
Тогда офицер попрощался с дамой, повернул полуроту обратно и повел к горе, ведущей в Кремль. Затем командой «бегом!» заставил ее бежать в гору и обратно несколько раз, без передышки.
Люди были в шинелях и тяжелых солдатских сапогах, с заплечными мешками боевого комплекта, с винтовками и с шанцевым (саперным) инстрементом.
Непривычные к таким экзерцициям люди стали задыхаться, падать, многие отстали.
И все же этого оказалось недостаточно для выколачивания студенческого строптивого духа.
Полурота подошла к казарме, перестроилась. Офицер поблагодарил за ученье. Ему не ответили. Трижды он поблагодарил, и трижды не получал «рады стараться!»
Тогда он повел полуроту к той же горе. Опять бег без передышки несколько раз в гору и с горы, а потом скорый марш за город, туда, где Ока впадает в Волгу.
Здесь была довольно большая площадь, на которой сверкало много глубоких луж после недавних сильных осенних дождей.
На середине площади полуротный внезапно скомандовал «Ложись!» Люди повалились в лужи. Поднимая и вновь укладывая их в лужи, офицер был уверен, что большего наказания быть не может, так как солдаты-студенты были мокры и грязны, а это влекло еще новую нагрузку на вечер вместо отдыха.
И он не ошибся: вольница была сломлена.
Когда у казармы штабс-капитан опять поблагодарил полуроту за ученье, он получил дружное «рады стараться, ваше благородие!»
Через две недели обучения искусству шагистики, поворотов и ружейных приемов начали формироваться маршевые роты для отправки бывших студентов в военные училища. Их первоначальная обработка была окончена: вольный дух сломлен, привита солдатская выправка и уменье выполнять команды, ходить, поворачиваться и обращаться с оружием. Рота Койранского частями попала в маршевые роты, отправленные во 2-ю и в 3-ю Московские и в Петергофскую школы прапорщиков.
Койранский не попал ни в одну из этих маршевых рот.
Дело в том, что на него рассердился фельдфебель, и не включал его в списки отправляемых. Гнев фельдфебеля разразился из-за часов Койранского, который пожалел подарить их фельдфебелю, несмотря на его категорическое требование.
«Не могу, это – подарок покойной матери, память от нее», отказывался Койранский дать взятку фельдфебелю.
Его не включили в списки трех маршевых рот, его ни разу не отпустили в город, ему запрещали покупать газеты, а купленные отбирались отделенным командиром по приказанию господина фельдфебеля.
Через месяц после прибытия стали формировать маршевую роту для 4-ой Московской школы прапорщиков. Узнав, что он опять не включен, Койранский отправился к командиру роты капитану Вигилянскому и через голову непосредственного начальства доложил ему свою жалобу.
Койранского не наказали за нарушение дисциплины, его немедленно включили в списки маршевой роты, а фельдфебель получил строгое взыскание.
И в октябре 1916 года Койранский попал в 4-ю Московскую школу прапорщиков. К его радости из других частей сюда прибыли его товарище по университету Гиацинтов и Разанов, его друзья-композитор и поэт, единомышленники и будущие сослуживцы.
12. Военная учеба и окончательное оформление семьи
Уехав от семьи, Койранский не порвал связи с ней. Он писал Марусе о своих надеждах скоро попасть на учебу в Москву, а она писала о своей жизни, о детях и о своей тоске ро нем.
В первый же субботний отпуск Койранский приехал к семье и нашел все, как оставил. И его приезды по субботам стали обязательными. Брат Александр уже жил в Дмитрове, но редко задерживался более двух суток, выезжая в канцелярию и в лес.
Однако, столовался и пользовался услугами общей прислуги.
Скоро все круто изменилось. Кто-то из детей заболел дифтерией и заразил остальных.
Заболели все, кроме маленькой Ниночке. Одни болели легко, другие тяжело. Но тяжелее всех болели маленькие мальчики Вячки Койранского.
В ноябре они умерли, один за другим.
Когда все остальные дети поправились, приехала новая жена и хозяйка к Александру – старшая сестра Маруси, Евлампия Дмитриевна Дерюжинская. Она жила в Сибири вместе с мужем и пятью детьми.
Что заставило ее бросить семью и связать свою судьбу с человеком, отвергнутым ее младшей сестрой, непонятно.
Она сразу взяла бразды правления в доме. А матери своих детей Александр вынес 5 рублей за все прежнее, как он сказал, и приказал убираться немедленно:
«Иди на улицу зарабатывать себе пятерки, не уйдешь, вытолкаю в шею, шлюха!»
Маруся была в трудном положении. Для нее это было очень неожиданно, да и силы ее были подорваны болезнью детей и смертью самых маленьких. Для сопротивления грубости, оскорблению и незаконных действиям не хватало уже сил. И некому было заступиться: Вячка был в Москве, а сестра осталась безразличной.
И Маруся ушла с маленькой дочуркой. Ее приютила старушка Александра Николаевна Фуфаева, жившая на той же улице.
У нее было два малюсеньких домика. В одном она сама жила, а другой был заколочен. Этот-то заколоченный домик и наняла Маруся.
Платье, белье и верхнюю одежду постепенно приносили ей старшие мальчики. Они же приносили матери дрова для отопления этого домика-крошки.
Чтобы существовать, нужны были средства, и платья одно за другим переходили в собственность разных соседок. Были проданы кое-какие вещи и Койранского, и трудно, но терпеливо Маруся жила и еще Койранского снабжала деньжатами.
Так окончательно оформилась семья Койранского и Маруси, когорая вошла в новую жизнь, совершенно не связанную со старой семьей и независимую от нее.
Однако совсем порвать со старой жизнью Маруся не могла, ее связывалт с ней дети, которые, несмотря на запрет, большую часть дня проводили в домике матери. Они за это подвергались наказаниям, но упорно пренебрегали отцовским домом.
Койранский теперь приезжал по субботам, как хозяин в свой дом. И нужно сказать, ему легче было, чем раньше, он душевно ожил и старательно занимался, помня, что ему придется содержать свою семью, когда будет произведен в офицеры.
С этого времени он стал систематически писать стихи, особенно в воскресные дни, когда ему удавалось оставаться одному в комнате. Он писал песни и сонеты, басни и сатиры, но больше всего ему нравилось писать на военные темы и воспоминания о днях юности. Он привык уже хладнокровно относится к пережитым трагедиям, он сумел с корнем вырвать свое последнее чувство, и, если вспоминал о нем, то насмешливо. Он насмешливо также относился к тем безумствам юности, которыми отвечал на свои неудачи в любовных делах. И только к памяти девочки Кази продолжал относится с благоговением, как к самому высокому подвигу любви. И так относился всю последующую жизнь.
Обстановка в школе прапорщиков нисколько не походила на ту, что была в Нижегородском батальоне.
Офицеры относились к юнкерам с подобающей вежливостью, не подчеривая с солдатской неприязнью их высшее образование.
Непосредственным обучением занимались офицеры или юнкера из студентов же, уже выслужившие по сроку пребывания в школе унтер-рфицерское звание.
Благодаря этому со стороны студенческой вольницы не встречалась строптивость и озорное упорство, почему и не было выколочивания воли у подчиненных.
Однотипность собранных студентов и закончивших вузы бывших студентов облегчали воспитание коллектива, а каждому члену коллектива – совместное проживание и учебу.
Здесь не было эксцессов, подобных описанному выше, и хоть время протекало в труде, но приятно.
Четыре месяца подготовки к ратному труду в училище не вызывали впечатления, что из обучаемых готовят пушечное мясо.
Наоборот, дух бодрости воодушевлял всех. Курсовой офицер, штабс-капитан Ярцев, и командир роты подполковник Осициянц старались поддерживать этот дух бодрости в юнкерах своим дружеским, товарищеским отношением к бывшим студентам.
Яйцев любил песню и обучал пенью свой взвод, желая сделать его образцовым. Он жалел, что нет поэта, который написал бы свою, особую песню. На это откликнулись Койранский и Гиацинтов.
Две песни – Походная и Вечерняя – скоро поступили на вооружение взвода.
Яйцев был очень доволен и заставлял, кроме своей любимой песни «Бородино», петь «Походную 4-го взвода».
Вот они, эти песни:
«ПОХОДНАЯ 4-ГО ВЗВОДА»Взвод четвертый шагайте быстрее,На ученье мы в поле идемИ, чтоб было бы нам веселее,Песню новую дружно споем.Вот уже мы на точке стояньяИ короткий нам отдых уж дан,Молча слушаем все со внименьем,Нам задачу дает капитан.Но всему есть конец в этом мире,И, взяв верх над фиктивным врагом,Собираемся все мы в трактире,Чтоб спеть песню за чайным столом.А потом поскорее обратноМы в казарму обедать идемИ на гибель врагов многократноЭту песню в дороге поем.Припев после каждого куплета:Мы юнкера, за нами честь победы!Сметем врага мы, где бы не был он!И над Россией вспыхнет солнце Леды– Свобода, мир и равный всем закон!Правда припев не понравился командиру роты, но курсовой офицер был в восторге от него.
«Вечерняя песня» распевалась обычно по вечерам во взводном помещении, в уборных, в умывальнях и в других местах, где не услышат офицеры.
Эту песню вскоре переняла вся школа и она стала любимой. Штабс-капитан Яйцев и его помощник прапорщик Цабель частенько, во время своих дежурств, распевали ее вместе с юнкерами:
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯБыл студентомЖил моментом,День и ночь гулял,Но узналиИ призвали,Юнкером я стал!Утром будят,Не забудут,В шесть часов утра,А с прогулкиЧай и булки,Нынче, как вчера!Было трудно,Было нудно,Я ворчал не раз,Но машина– ДисциплинаУчит каждый час!То уставы,То заставы,День идет за днем,А в работеО субботеГрезим мы тайком.Четыре месяца пребывания в школе протекли быстро.
Военная служба очень благотворно повлияла на Койранского. Он физически поздоровел и морально стал лучше себя чувствовать. Смерть его первенцев, которых он очень любил, тяжело отозвалась в его душе, но он скоро оправился: военная дисциплина не оставляла времени для игры развинченных нервов.
Кроме того, Койранский стал считать себя главой семьи, и очень серьезно отнесся к своим обязанностям в этой роли.
Маруся, оправившись после потери детей, после изгнания из свитого ею же гнезда, как-то автоматически признала авторитет Койранского и покорно исполняла все, что он ей рекомендовал и что требовала от нее жизнь.
Теперь ей некем было распоряжаться, все надо было делать самой. И она, без жалоб и стонов, принялась за все.
И ее привязанность к Вячке росла, она стала по-настоящему, зрело его любить, и признавалась ему, что раньше, кроме физического влечения, ничего к нему не питала.
Койранского не посетило такое же глубокое чувство, как Марусю. Но он скрывал в себе свою душевную пустоту. Она ему неоднократно говорила:
«Ты меня не любишь, я знаю, только жалеешь. Прости меня за все!»
Койранский отмалчивался: лгать он не мог, но и подтверждением ее мыслей не хотел расстраивать ее.
«Ты – моя жена. Из этого положения я исхожу и всегда буду исходить», говорил Койранский Марусе.
Согласие и дружба в их семье не нарушались. Маруся очень заботилась о Вячке. Она видела, как ему тяжело всегда ходить в грубых солдатских сапогах, и просила его купить хромовые, праздничные сапоги, для чего одолжила у хозяйки дома денег.
Покупка сапог сопровождалась одним инцендентом, характеризующую московскую знать во время войны.
Койранский договорился со своим товарищем Розановым идти вместе покупать сапоги.
Получив отпуск в один их будничных дней, они отправились в магазин экономическог общества офицеров (теперь главный военторг), но там не нашли хороших хромовых сапог и пошли на Петровку, к Мюру (теперь ЦУМ). Сапоги подходящие здесь нашлись.
Меряя, они заметили двух изящно одетых женщин средних лет, очень похожих между собою. Обе были брюнетки, небольшого роста. А так как они были под вуалью, глаз разглядеть было нельзя.
Женщины, остановившись у прилавка, пристально следили за юнкерами. Потом Койранский стал в очередь в кассу, чтобы заплатить за обоих. Неожиданно к нему подошла одна из дам и предложила:
«Давайте чеки и деньги. Сестра в очереди, она уплатит».
Койранский поблагодарил и дал. Она, действительно, подошла к другой даме, бывшей совсем близко от окошечка кассы, и передала ей чеки и деньги.
Потом она подошла опять к Койранскому и они стали разговаривать. К ним подошел и Розанов. Они отрекомендовались, однако, под фальшивыми фамилиями:
«Юнкер Неустроев, юнкер Туров».
Болтая, они не заметили, как та, что платила, отдала чеки и получила два свертка с сапогами. Она подошла к беседующим и отдала им покупки. На одном свертке был карандошом помечен номер сапог Койранского, нп другом – Розанова.
Когда они вместе вышли из магазина, дамам была подана коляска, запряженная в одну лошадь.
«Хотите, господа, провести с нами вечер? Если не против, садитесь с нами», сказала одна из дам.
«Охотно!» – ответил Розанов и Койранскому ничего не оставалось, как последовать за ним в коляску.
Она была четырехместная, с откидной скамейкой напротив основного сиденья.
Они подъехали к одноэтажному особняку на Большой Садовой.
Убранство комнат и сами дамы, – все говорило, что юнкера попали к аристократам.
Обе дамы быстро переоделись и вышли к гостям в домашних, тоже изящных, платьях.
«Будем знакомиться: Я – Виктория Сергеевна, а это – моя сестра, Екатерина Сергеевна», сказала более полная дама, очевидно, старшая. Теперь приятели хорошо разглядели хозяек дома.
Виктории Сергеевне было не больше 30 лет. Она была маленького роста, довольно полная, но не расплывшаяся, с приятным лицом и с замечательно добрыми глазами, которые будто говорили: вот какая я добрая, любите меня. Голова была обрамлена тяжелой прической, свидетельствующей о прекрасных волосах темно-коричневого цвета. Ее голос был низкого тембра, но при выражении чувств, неожиданно повышался до высочайшего сопрано.
Руки были чрезвычайно маленькие, и на них не было ни одного кольца, даже обручального, что так не походило на коренных москвичек, любивших нацепить на руи груз из золота и каменьев. Зато на груди, открытой в пределах приличия, покоилась небольшая бриллиантовая семиугольная звездочка, изумительно горевшая всеми цветами радуги. Звезда висела на плетеной бархатистой цепочке, широкой ленте, охватывающей выточенную красивую шею и суживающую вниз, по мере удаления от нее. Вся дамочка была пропитана запахом чайной розы, удивительно нежным, не будоражащим нервов собеседника.
Ее сестра, Екатерина Сергеевна, была полной брюнеткой, лет 25, не больше, значительно выше и тоньше сестры. Ее фигуру можно было принять за девичью, настолько она была тонка и гибка. На узких плечах, одетых в темно-красное шелковое платье, красовалась небольшая головка, с правильными чертами лица, очень похожими на сестрины, но глаза отличались не добротой, а бесцеремонной вульгарностью, приглашавшей к действию. На большой прическе голубела небольшая диадема, а на шее – золотая цепочка с золотой же малюсенькой книжицей, в середину которой был вделан маленький красный камешек. В отличии от сестры Екатерина Сергеевна ровным красивым и постоянным, не очень высоким сопрано. Как потом оказалось, она была превосходной певицей.
Сначала беседовали в маленькой изящной, всей из серого сафьяна, гостиной.
Через полчаса гостей пригласили в столовую, большую, обставленную тяжелой мебелью, комнату в которой столы и мебель были под дуб. Стол был сервирован замечательно. На столе – яблоки, груши, пирожки и пирожные, даже две бутылки красного рейнвейна. Одним словом, все такие деликатесы, каких в те времена достать где-либо было совершенно невозможно.
Дамы вели себя прилично, а потому и юнкера тоже были скромными. «Наши мужья – офицеры, они в Петрограде. А мы вот коротаем время в Москве, очень скучаем одни, потму что среди офицерства нет интеллегентных людей. Очень много офицеров из солдат. И мы очень рады, что познакомились с вами. Вы очень милые юноши!» – так говорили сестры-хозяйки, однако фамилий своих не назвали, чувствуя может быть, некоторую авантюристичность своего поступка, который им захотелось выкинуть со скуки.



